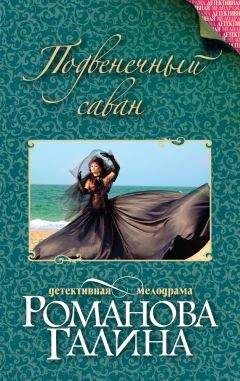Я подумал, что надо высказать то, в чем я считал себя виновным, и уйти.
— Тут я, тебя не было, с Линой грубо говорил. Я не знал, что ты сам отдал ей работы, а она сказала об этом не сразу.
— Плевать!
— Плевать что? Что работы отдал или что говорил грубо?
— Конечно, плевать!
— И с Митей, я думаю, у меня разлажены отношения. Он, может быть, ждал, что я что-то о повести скажу, а она мне не понравилась.
— А.
— Ты видел его?
— По телефону говорил.
— А он… он сказал, что твои работы выставил, выдав за свои?
— Ладно, хоть на это пригодились. Кто-то и глянул.
— Так-то так. А ты, ты прости меня, это последний вопрос…
— Господи! Спрашивай сколько угодно. Это я виноват, что сам ничего не рассказываю. Я в себя приду. — Он помолчал. — Ну что ж, ладно, хорошо… Митька просит не объявляться с полгода, с год. Я вообще не объявлюсь. Если смогу работать, буду работать под чужой фамилией. У японцев раньше было: мастер достигает уровня известности, меняет резко манеру, выступает под другой фамилией, то есть начинает сначала… Валь! — закричал. Валера. — Где там контрабандный чай? — Засмеялся и объяснил мне: — У негра купил.
— Ты звонил Лине примерно в начале июня?
— Да. По пьянке, конечно. Она сказала: я не хочу, чтобы ты бросал пить, ты меня только пьяный вспоминаешь. А как с нею иначе — она же ненормальное явление в моей жизни, я пьянка тоже ненормальна, так что сошлось.
— Ты знал, что хрусталь у нее?
— Который сам Подарил, знал. А из кладовки без меня вывезли. Митька, наверное. Ой, не буду я этим заниматься.
Пришла Валя с подносиком, на котором были кроме всего прочего рукодельные салфетки.
— Девчонки?! — воскликнул Валера, рассматривая салфетку.
— Они, — ответила довольная Валя, — они знаешь как рисуют?
Валера насупился, расправил салфетку на столе, прихлопнул по ней ладонью:
— Мы поговорим еще, Валюш. Краски отбери. Какое время переживаем, — раздраженно сказал он, — время тыка-имя слепых котят во все углы. То в моду! А что мода? Мода есть скрывание недостатков, есть разорение отдельных за счет приобщения к стаду. Искусство! Наплодили школ, добились, что все могут башку Сократа срисовать, ему-то, может, так и надо, но они и до Платона доберутся! Краски им! А если б отец Отелло играл, в Дездемоны бы запросились?
Не стесняясь меня, Валя разревелась.
Я засобирался. Валера пошел меня провожать. В лифте он, будто и не было ничего, продолжал говорить:
— А не смогу, туда мне и дорога. Вдруг я ударился о потолок своих возможностей? Поднатужиться? В искусстве натуга вылезет в любую щель и о себе заорет.
Мы сели на детской площадке под фанерный раскрашенный грибок.
— Знаешь, куда мне сейчас хочется? — спросил Валера.
— Знаю.
Он засмеялся:
— Да, в Великий Устюг. Да, брат, три города великих: Ростов, Новгород и Устюг. А Василий Михайлович каков! И Аниска. Говорил тебе Васька, рассказывал, как его на Севере заставляли золото копать? А он говорит: я его не закапывал. Прямо как в анекдоте про бичей. «Что ты можешь?» — бича спрашивают. Он говорит: «Могу копать», — «А еще что можешь?» — «Могу не копать». — И невесело засмеялся. — Нагляделся я. Вообще, что это за веяние моды — хождение в народ? Босяки — те же бичи, только не хватает на них Горького да ореола романтики. А так… а! С Любой в Устюге в ЛТП ходил? Говорила тебе, что я ее травмировал насмерть?
Я коротко рассказал о поездке в Коромыслово. Валера, не желая поддерживать разговора о той яме с дровами, отшутился:
— «И в час ночной, ужасный час, когда гроза пугала вас, я убежал, о, я, как брат, обняться с бурей был бы рад…»
— Там теленок в той яме погиб. Тогда еще дети пропали, и я думал…
— А ведь я в самом деле дожил до мысли о бесследном уходе. Чтобы тело вскрывали — ужас! Да еще заключение — смерть от того-то. Ужас! Ой! Теперь дело прошлое. Вчера, представь, меня кто бы первым увидел — Таня. Увидела, дернулась, а разглядела — отпрянули. У женщин чутье на то, нужны они или нет. Не нужны! Все, все! Только Валя, только Валя! Ей надо отойти, отправить бы ее куда отдыхать. Так куда? Девчонки в школу пошли. Хоть бы к тебе после четвертого попали.
— Выучил уж одного, — невесело засмеялся я. — Вообще подождем, может, и Митя чему научится.
Подошла компания ребят. Попросили закурить. Но мы не курили.
— Митькины читатели, — кивнул Валера. — Вообще-то почему вдруг я сказал, что ему не о чем писать? Конечно, нас война задела, он и тут нас упрекнул, вы, говорит, промежуточное поколение между фронтовым и его, Митькиным. Сделала, говорит, сама жизнь нас нерешительными, а фронтовиков оставила в прошлом, так что вся надежа на ихнюю генерацию. Так хотя б, дураки, сообразили, что нечего им соваться в описания трудностей, они их не видели, для них трудность, если им какую-то глупость не дают вслух сказать, нм бы в состояние проникнуть, состояние писать. Состояние. От него все. Но им не написать, состояния-то они и не испытывали. Ладно, чего о Митьке, не пропащий он. Ну что, — сказал он после паузы, — Валя считает, что я перебесился. Побег от себя, кризис жанра. Тут мне Лина по телефону успела пролепетать, что может помочь напечатать мои — и твои, вместе ж занимались, она и тебя вяжет — изыскания о древности славян, сопоставления берестяных грамот и надмогильных надписей, глиняных дощечек. Как?
— Кому это надо, кроме нас?
— Кроме нас двоих или вообще: нас?
— Хоть как скажи. Все будет плохо. Древние мы — значит, отжили, молодые — значит, до многого не доросли. Поздно. Пойдем? — попросил я.
— У меня от этого года останутся в памяти Керчь да Устюг. А еще Байкал, я ведь туда рванул по весне. Лед еще стоял, я как-нибудь расскажу. Трещал лед. Не просто, это надо слышать. Он взрывался, трещина по нему летела с визгом, как молния, лед распарывала. Я себя искушал, нельзя, конечно, как бы прощался с риском: ночью выйду на лед, лягу, ухом прижмусь — лед все время гремит, ощущение, что трещина пройдет под тобой и что в эту пропасть просядешь. Или шел поближе к открытой воде. Сейчас не рассказать, я еще сам не разобрался. Лед, солнце днем, ветер, серебряная снежная пыль. На хрусталь похоже, мне снилось, что хрусталь, который я делал, ледяной и вот-вот растает, вот-вот наступит тепло. Снилось. Если сон продолжить — вот хрусталь тает, в воде паутинка узора…
За Валерой пришла Валя, видимо высмотревшая нас в окно. Сказала, что девочки спят. Сказала, что Митя звонил, что завтра придет. Спросил, когда освобождать мастерскую. Валера молчал, чертя веточкой на песке. Кончился вечерний телефильм, это было заметно по гаснущим окнам и по тому, что залаяли собаки, выводящие хозяев на вечернюю прогулку.
Я отправился домой. Хорошо, что мы жили недалеко друг от друга. Все хорошо.
Из дома я, как обещал, позвонил Валере сказать, что пришел. Мы помолчали. «А в Великий Устюг некому позвонить, спросить о пожаре в Коромыслове, о детях спросить?» — «Можно в редакцию». — «Да». — «Ты девчонкам не запрещай рисовать». — «Конечно, пусть». Мы еще чуточку потянули, не говоря ни о чем и даже чувствуя неловкость, что ни о чем не говорим, но прощаться не хотелось.
Слышно было, как Валера оторвался от трубки, что-то сказал в сторону, затем засмеялся и сказал мне:
— Спрашивает, смотрел ли я кладовку, я говорю, что нищета: — двигатель прогресса. Ну что, до завтра?
— До завтра.
— Сейчас бы к морю ненадолго, в Керчь. Море светится сейчас, помнишь?
— Да. Помнишь, ты хотел это написать? Сын, как хрустальный, весь в бриллиантах, помнишь?
Я все выдумал. Выдумал эпилог. Валера не вернулся. Но я помнил тот август. Еще не было девчонок, Митька был маленький. Ходили вечером купаться, было совсем темно, как это бывает на юге, только дальние прожектора, да звезды, да еще звезды на воде — огни теплоходов. Море светилось. Ведешь рукой в воде — рука вся в белом искрящемся огне. Бросишь камень — от него круг света. Но самое незабываемое, это когда Валера купал голенького сына. Он опускал его в воду и поднимал быстро над водой, и ребенок весь был фантастически сверкающий. Тут все было — природа, давшая этот свет, ребенок, пришедший в природу, его отец. Ах, как бы славно, если бы у Валеры все это получилось — это сияние, эта радость, эти будущие дни.
И еще он одну мечтал написать картину, уже о дочерях. Он рассказывал, что они в начале лета сидели на полу в комнате, было солнце. Девчонкам принесли первой в это лето земляники. Они ели руками из чашки, все перемазались и заливались смехом. Валера вошел, это уже было счастье — увидеть так детей, а еще на подоконник сел белый голубь и, махая большими крыльями, заплескал белым цветом стены и потолок.
Но тут уж как знать, получатся картины млн нет. Остается ждать и надеяться, что наше ожидание поможет. Должны же и другие видеть то, что видит художник. Иначе зачем он это видел? Где он сейчас?