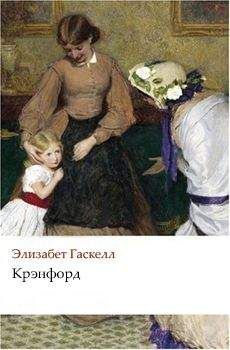Он вернулся, но, увидев Молли, вспомнил, что его отсутствие могло и не показаться ей таким уж долгим, и ужаснулся старым страхам, что она сочтет его непостоянным и ветреным. Именно поэтому молодой джентльмен, столь уверенный в себе и здравомыслящий в научных вопросах, обнаружил, что ему трудно признаться Молли в том, что, как он надеется, она любит его; не исключено, он потерпел бы сокрушительную неудачу, если бы не додумался показать ей цветок, отделенный от букета. Сколь очаровательно выглядела бы эта сцена, если бы миссис Гаскелл дожила до того, чтобы описать ее, мы можем только гадать, но в том, что она непременно получилась бы очаровательной – особенно в том, что делала, как выглядела и что говорила Молли, – можно не сомневаться.
Роджер и Молли поженятся, и если кто-то из них и счастливее другого, то это Молли. Ее супругу нет нужды полагаться на небольшое скромное состояние, которое перейдет к сыну бедного Осборна, потому что он станет профессором какого-нибудь научного учреждения и сделает потрясающую карьеру. Сквайр от этого брака почти так же счастлив, как и его сын. Если кто и страдает, так только мистер Гибсон. Но он берет себе партнера, чтобы иметь возможность время от времени съездить на несколько дней в Лондон, к Молли, а заодно и «отдохнуть от миссис Гибсон». О том, что станется с Синтией после ее замужества, автор особенно не переживала; откровенно говоря, добавить здесь особенно нечего. Впрочем, миссис Гаскелл рассказывала о ней характерный маленький эпизод. Однажды, когда Синтия со своим супругом приехала погостить в Холлингфорд, мистер Гендерсон впервые узнал, благодаря невинному и случайно оброненному мистером Гибсоном замечанию, что знаменитый путешественник Роджер Хэмли является другом семьи. Синтия, так уж вышло, ни словом об этом не обмолвилась. Как бы хорошо был описан и этот незначительный инцидент!
Но, пожалуй, нет смысла рассуждать о том, что сотворила бы маленькая сильная рука, не способная более создать ни новую Молли Гибсон, ни очередного Роджера Хэмли. В этом кратком послесловии мы повторили все, что известно о ее замыслах в этой истории, которая завершилась бы в следующей главе. Впрочем, по большому счету сожалеть о том, что касается этого романа, не приходится; те же, кто близко знал ее, сожалеют не о потере романистки, а об утрате женщины – одной из добрейших и мудрейших представительниц своего времени. Правда, справедливости ради, говоря о ней исключительно как об авторе романов, следует заметить, что ее безвременная кончина служит источником глубочайшего сожаления. Судя по роману «Жены и дочери», небольшому потрясающему рассказу «Кузина Филлис», что предшествовал ему, и повести «Возлюбленные Сильвии», за эти пять лет миссис Гаскелл совершила головокружительную карьеру со всей свежестью молодости и силой ума, который отряхнул с себя прах и возродился заново. Но выражение «отряхнул с себя прах» не следует понимать буквально. Все умы, равно как и души, в большей или меньшей степени запачканы теми «грязными одеждами», в которые заключены, но очень немногие из них демонстрируют столь же ничтожную толику презренного земного естества, как тот, что принадлежал миссис Гаскелл. Так было во все времена, однако в последние годы, похоже, даже изначально слабое его присутствие тает без следа. Взявшись прочесть любую из трех упомянутых нами книг, вы окажетесь в ужасном безнравственном мире, насквозь пронизанном эгоизмом и низменными страстями, в мире, переполненном слабостью, ошибками и невыносимо горькими страданиями, но в котором люди могут жить спокойной и цельной жизнью. Более того, вы вдруг почувствуете, что этот мир настолько же реален, как и любой другой. Каждая страница пропитана духом благожелательности, не способным причинить зло, и, читая книгу, мы поглощаем чистый разум, предпочитающий иметь дело с чувствами и эмоциями, пускающими живые корни в умах и душах в процессе спасения, а не с теми, что гниют и разлагаются без него. Дух этот сильнее всего проявляется в «Кузине Филлис» и «Женах и дочерях» – последних работах автора; со всей очевидностью они демонстрируют, что для нее окончание жизни означает не погребение под землю, а вознесение к чистому воздуху горних вершин.
Сейчас мы не касаемся сугубо интеллектуальных качеств, проявившихся в этих последних работах. Не исключено, что через двадцать лет вопрос этот будет сочтен наиболее животрепещущим. Думать так пред ее могилой – кощунство, но тем не менее нельзя отрицать, что в качестве художественного произведения и жизненных зарисовок эти последние романы миссис Гаскелл принадлежат золотому фонду литературы нашего времени. В «Кузине Филлис» есть одна сцена – там, где Хольман, который косил траву вместе со своими людьми, завершает день пением псалма, – которая в общем-то не свойственна современной беллетристике; и то же самое можно сказать о главе в этом последнем романе, в которой Роджер выкуривает трубку со сквайром после ссоры с Осборном. В этих сценах, или дюжине прочих, что следуют одна за другой, словно жемчужины на шнурке, скрывается немногое из того, за что может «ухватиться» обычный составитель романов. Для него нет «материала» в полудюжине сельскохозяйственных работников, поющих гимны на поле, или в расстроенном пожилом джентльмене, курящем трубку вместе со своим сыном. Еще меньше он находит для себя в страданиях маленькой девочки, которую в поисках счастья отправляют в роскошный дом, полный знатных людей, но именно в таких нюансах ярче всего и проявляется подлинный гений. То же самое относится и к персонажам в произведениях миссис Гаскелл. Синтия являет собой образчик наиболее сложного характера, попытки нарисовать который предпринимались нашими современниками. Безупречное произведение искусства всегда оставляет в тени трудности, которые ему приходится преодолевать, и, только следуя процессу созидания такого героя, как, например, Тито из «Ромолы», мы начинаем осознавать, что перед нами подлинный шедевр. Да, разумеется, Синтия отнюдь не так сложна и ее образ отнюдь не так ярок, как это превосходное творение мысли и мастерства – глубочайшей мысли и редчайшего мастерства. Но она также принадлежит к тем персонажам, которые способны появиться на свет лишь в величайших умах, чистых, гармоничных и справедливых, и безошибочно описать которые во всей их полноте способны лишь руки, подвластные тончайшей игре разума. Если смотреть на нее с этой точки зрения, то образ Синтии куда важнее даже Молли, которая выписана бережными мазками и являет собой образ гармоничный и искренний. То, что мы сказали о Синтии, можно в равной мере отнести и к Осборну Хэмли. Истинное живописное изображение подобного персонажа является столь же верным тестом на мастерство, как рисунок руки или ноги, нарисовать которые кажется так легко, но найти совершенство в которых всегда так трудно. Однако в данном случае проделанная работа представляется безупречной. После «Мэри Бартон» миссис Гаскелл создала дюжину персонажей куда более ярких, нежели Осборн, но ни одного, выписанного с такой же тщательностью и самозабвением.
Позволим себе сделать еще одно замечание, поскольку оно имеет большое значение. Пожалуй, утверждение о том, что здесь не самое подходящее место для критики, не требует доказательств, но поскольку мы пишем об Осборне Хэмли, то нам не устоять перед искушением указать на необычную составляющую тех трудноуловимых концепций, которые лежат в основе всех значительных произведений искусства. Вот перед нами Осборн и Роджер, двое мужчин, выписанных ярко и зримо, которые являются полной противоположностью друг другу. Они совершенно не похожи друг на друга душой и телом. Они обладают разными вкусами; у них разные цели в жизни: они – мужчины двух типов, которые никогда не «пересекаются» в обществе; но при этом никогда еще братские узы не проявлялись столь ярко, как у этих двоих. Добиться этого без натужных усилий, проглядывающих тут и там хотя бы на мгновение, – вот торжество подлинного мастерства; но продемонстрировать их похожесть в непохожести столь естественным образом, так что мы удивляемся этому не больше, чем завязи и плоду на одной и той же ветке, и есть «проявление божественного дара»: мы часто видим их вместе во время сбора ягод, и уже не удивляемся и даже не задумываемся над этим. Не столь изощренные писатели, даже те, коих полагают знаменитыми, не преминули бы остановиться на «контрасте», свято веря, что производят драматическое анатомическое препарирование, выпячивая его при первой же возможности. Но для автора «Жен и дочерей» такой подход означал бы ампутацию. Свой роман она начала с того, что люди у нее рождаются естественным образом, а не создаются подобно монстру Франкенштейну, и потому, когда сквайр Хэмли женился, двое его сыновей получились столь же одинаковыми и разными, как цветок и плод на одной ветке. «Это само собой разумеется». Именно таких различий и следовало ожидать от союза сквайра Хэмли с утонченной городской женщиной, обладающей деликатным складом ума. И привязанность молодых людей, и их доброта (в прежнем и новом значении этого слова) являются не чем иным, как воспроизводством тех неосязаемых нитей любви, что связывают совершенно разных отца и мать крепче, чем узы крови.