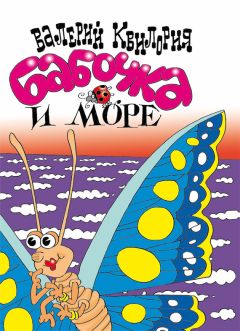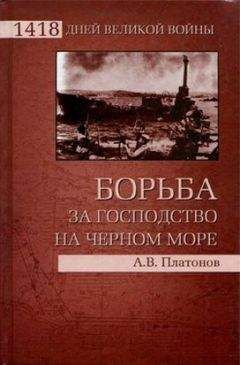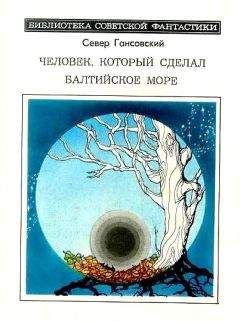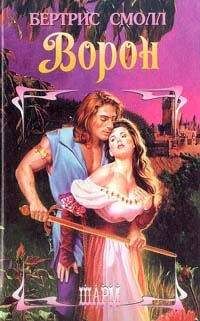Правда, премиальные выплаты были большие, и на Абруке строились новые дома, люди покупали мотоциклы, автомобили, модную мебель, однако рыбаки, они же строители светлого будущего, были далеко не так счастливы, как о том вещало радио и писали газеты. Наряду с радостью от морских щедрот и рекордных путин исподтишка закрадывалось как бы чувство вины от причастности к бесчестному и постыдному существованию. Над салакой, маленькой честной рыбешкой, которая на протяжении десятков поколений помогала островитянам выживать в трудные периоды, теперь потешались под прикрытием крикливых лозунгов, вылавливали, не испытывая благоговения, не прислушиваясь к голосу разума, вылавливали сотнями и тысячами тонн, чтобы обойтись с ней пренебрежительно или испоганить и под покровом ночи закопать в песок.
Порой об этом заговаривали, разумеется, в лодке или в кабаке за столом, но вокруг было слишком много любопытных ушей, так что разговоры затухали из боязни или осторожности. Когда жизненные противоречия бередят сердце, человек ищет оправдания либо утешения. Новый мотоцикл или шифер на крыше утешали, хотя ненадолго. Утешение находили в лавке на полке, и оно оказывалось столь могучим, что частенько заполняло все пространство между морем и небом непотребными песнями.
Между тем рекордные уловы сходили на нет, ибо сотни мережей заглатывали салаку с безжалостным равнодушием, а природа не успевала восполнять убыль. Надвигались скудные годы, и дело заключалось не в капризах моря, оставлявшего рыбаков без содержания и без ловецкой радости, вселявшего беспокойство в чаек, а председателей да парторгов повергавшего в уныние — это было не только предупреждение природы, но кара ДУХА САЛАКИ за безразличие, заносчивость и слепоту, за никчемную алчность.
Над строптивыми водами продолжали разноситься песни утешения, порой рыбаки утешали себя, будто сироток, которых незаслуженно оставили без даров моря. Утешительные напитки были дешевы и доступны, укоры жен или страх в глазах детей не препятствовали самоутешению, оно стало неотъемлемой частью жизни. В последние свои годы и Сась Тамм не обходился без утешения в радости или в горе. Человек, которого ДУХ САЛАКИ десятилетиями одаривал щедрыми уловами, заботливо и уважительно вел по счастливой стезе, этот человек в глубине души явственно чувствовал, что надругался или даже предал своего доброго хранителя. Мало того что рыбы становилось все меньше, само море изменило норов, цвет и запах. Оно вроде бы подпортилось, прибрежные воды стали пахнуть вроде бы не так, а резкий и горделивый запах водорослей, какой после шторма заполнял все вокруг, — густой, солоноватый запах чистого моря все слабел и слабел.
Возможно, в некоторых случаях никакие утешения не помогают, ибо Сась чувствовал, когда полный день утешался, что на следующий день душа требует двойной порции утешения. На третий день — тройной порции. На четвертый… На четвертый день раздобыть утешение на деревне не удалось, и Сась, мужик еще в полном соку, ранним апрельским утром отправился по весеннему льду через пролив в город. По утру шел шустро и вскоре добрался в городе до полок со снадобьем, он и рассчитывал обернуться споро, потому что днем апрельский лед неизбежно теряет крепость. Одну бутылку почал сразу, другие распихал по карманам и направил стопы к дому.
Над морем под солнечными лучами уже поднималась туманная дымка, мужик глотал воздушную влагу вперемежку со снадобьем, это придавало ходу резвость и рвение, солнце сияло в пределах родного моря и, растапливая родной ледовый покров, расстилало вокруг целительный белесый парок, капельками оседавший на лице и губах. Мужик убыстрял шаг в сгущающемся мареве, глаза резало от напряжения, когда он пытался различить перед собой знакомую полоску темного леса на Абруке. Так и осталось невыясненным, запечатлелась ли в глазах его и в сердце эта спасительная полоска, ибо прежде коварный апрельский лед начал потрескивать под ногами и крошиться, образовал ямку аккурат в объем человеческого тела, и через нее Сась ухнул в студеную воду. Лед пропустил-поглотил, а обратно приглашать не стал. Может, и приглашал, да ДУХ САЛАКИ не отпустил. Этот дух очень долго держал человека при себе. У них было о чем поговорить. Едва ли дух пожурил рыбака за неосмотрительность. Никто лучше Сася не знал моря. Едва ли дух стал упрекать за то, что мужик перебарщивал в своих утешениях. Когда жизнь человеческая прожита, странно и уже неоправданно упрекать за что-то в минувшем.
— Как жил, так и жил, — сказал Сась ДУХУ. — Никогда не робел и не лодырничал.
— Это уж точно, — согласился ДУХ САЛАКИ. — О тебе в газете писали: герой из-под Великих Лук стал ударным рыбаком на Абруке.
— Не вспоминай про войну, — попросил Сась. — Лучше бы ее вообще не было. На четыре года оторвала от моря и от лова салаки.
— Тебя и в мирное время провозгласили героем. В газете напечатали: в жутком осеннем шторме Александр Тамм спас два десятка новых сетей. Ты не побоялся в такую страшную бурю выйти в море?
— Моря всегда надо немного побаиваться. До девяти баллов доходило, и могло случиться, что лодку перевернет. Не случилось.
— А если бы случилось?
— Ну так и случилось бы. А выйти пришлось — это был вопрос чести.
— Теперь я тебя понимаю, — сказал ДУХ САЛАКИ. — Твой отец тоже был храбрым человеком. Спасал людей, когда шторм выбросил судно на камни. У твоего отца спросили, что он предпочел бы за свой мужественный поступок — золотую звонкую монету или почетную медаль и звонкоголосую славу? И твой отец ответил: «Только почетную медаль. Золото потратишь — и ничего нет, а слава останется».
Когда ДУХ САЛАКИ все разговоры с Сасем переговорил, то не стал его больше задерживать. Море прибило Сася к берегу только летом, в канун Иванова дня. И он совсем не походил на прежнего Сася — в гроб останки положили в мешке из пленки, а новый костюм надели поверх. Когда речи на кладбище были произнесены, соседская женщина проронила: «По правде сказать, и хоронить-то вроде некого, но жуть как здорово, что человека к дому прибило».
Преэдик несколько десятков лет плавал с Сасем в одной лодке, так что ему и довелось крышку гроба завинчивать. Только перед этим Преэдик незаметно сунул в карман пиджака 50 крон, а в другой — горстку вяленой салаки. Деньги — для большей уверенности в себе. А салаку — как самую яркую, ничем незаменимую память о родном острове. И салака, право слово, была отменная, провяленная до Иванова дня, пока воздух не слишком душный и навозных мух мало.
Связочка вяленой салаки являлась знаком тесного переплетения судеб. В то самое утро, когда Сася забрили на большую войну, обок с ним и Преэдик отправился в долгий путь. Мало кто полагал, что этот путь окажется столь трудным и кровавым. Новобранцы сходились в мысли, что драчка вполне возможна, но никто не покинет Абруку на годы.
Уходивших на войну объединяло еще и то, что у каждого мужика или парня в заплечном мешке лежало по несколько снизок вяленой салаки. Это был сухой паек, провиант на дорогу. Чем дальше в глубину России уходил путь, тем меньше рыбы оставалось у мужиков на донышке мешка. Если сначала, покатав во рту, хрупали по целой салачине, если вначале делились с товарищами по несчастью, то затем почти тайком, где-нибудь в темном уголке, разрезали перочинным ножом рыбешку на кусочки и обсасывали каждый неторопливо и осторожно, чтобы ни капельки слюны не уронить ненароком. Засохший кусочек рыбы не давал сытости, но вкус салаки долго держался во рту и подкреплял дух: мы преодолеем все невзгоды, мы вернемся живыми обратно, на свои салачьи местечки. Когда однажды утром Преэдик обнаружил: чья-то чужая рука пошарила в его заплечном мешке и уперла последние рыбки — это подействовало на него почти как смерть первого из числа призывников, ослабевшего то ли от голода, то ли от болезни. Будто гнетом придавило оттого, что у тебя под боком вор, и оттого, что на войне свой же товарищ может одним махом лишить тебя как веры и надежды, так и воспоминаний. Но из мешка еще долго попахивало рыбой, где-то в складках завалялась маленькая чешуйка, и от этой маленькой чешуйки, едва видимой глазом, исходил такой крепкий запах, что голова начинала кружиться и в глазах темнело.
В ту самую минуту, когда Преэдик встречает на своем пирсе причаливающую лодку с уловом, в своей квартире за несколько сотен километров от Абруки, в далеком городе Тарту, выходит на балкон его одногодок с такой же седой головой. Он не замечает осенних ароматов, долетающих с заливного луга, и не заглядывается на небо, чтобы определить, улетела ли последняя ласточка с берегов здешней реки на берега Нила. Он оглядывает веревочки, натянутые вдоль балкона, смотрит внимательно, потом с удивлением, затем с недовольством и восклицает в негодовании:
— Жена, иди сюда и посмотри!