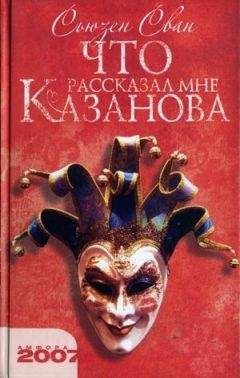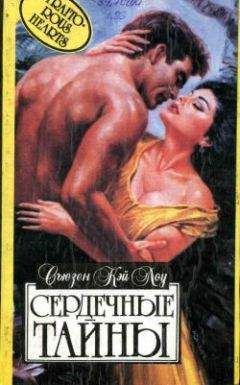- Разрази меня гром, - говорит. - Значит, он... Выходит, он первым был, первым, кто...
Мэтт и не обернулся.
- Он ей их еще не отдал, - говорит.
- Разрази его гром, сквалыгу проклятого, - говорит Макси. - Если старик девке просто морочит голову, он и то подлец. А если обманет ее, да потом еще и обжулит...
На этот раз Мэтт обернулся: он тоже брил клиента.
- А что бы ты сказал, если бы узнал, что он ей часы еще не отдал, он, я так понимаю, считает, что в ее годы ценные вещи принимать можно только от родни.
- Что ж, по-твоему, он не знает ничего? Не знает, о чем весь город, кроме разве что Берчеттов, вот уж три года как знает?
Мэтт опять принялся за клиента, локоть его двигался ровно, бритва короткими рывками.
- Откуда ему знать. Такое только женщина может сказать. А он ни с кем, кроме миссис Кауэн, и не знаком. А она небось думает, ему давно донесли.
- И то верно, - говорит Макси.
Вот, значит, как дела обстояли, когда он уехал две недели назад. Я в Джефферсоне за два дня обернулся и покатил дальше. И в середине следующей недели добрался до Дивижена. Я не торопился. Не хотел его врасплох застать. Приехал туда утром, в среду.
II
Если и была в его жизни любовь, Пинкертон, похоже, о ней и думать забыл. О любви то есть. Когда я его в первый раз увидел тринадцать лет назад, за креслом парикмахерской в Портерфилде (я тогда только начал разъезжать, мне выделили север Миссисипи и Алабаму - рабочую одежду сбывать), я себе сказал: "Вот кому на роду написано весь век холостяком коротать. Вот кто сразу сорокалетним холостяком и уродился".
Приземистый такой человечишка, с землистым лицом, которого не запомнишь, а через десять минут и не признаешь, в синем диагоналевом костюме, в черном галстуке-бабочке, что сзади застегивается, - они так завязанными и продаются. Макси мне рассказывал, что год спустя, когда он сошел В' Джефферсоне с поезда, который отправлялся на юг, он был в том же диагоналевом костюме и в том же галстуке, а в руке нес картонный чемодан. Через год я его опять увидел в парикмахерской у Макси и, не стой он за креслом, не признал бы нипочем. Лицо то же, галстук тот же: не иначе как его вместе с креслом, клиентом и всем прочим схватили в охапку и перенесли на шестьдесят миль, а он того и не заметил. Я даже в окно взглянул: уж не в Портерфилде ли я, думаю, и не в прошлом ли году. И тут смекнул, что полтора месяца назад, когда я наезжал в Портерфилд, его не было там.
Прошло еще три года, прежде чем я разузнал его подноготную. Я раз пять в год наезжал в Дивижен - это такой поселок на границе Миссисипи и Алабамы, всего несколько домов, лавка и лесопильня. И приметил я там один дом. Крепкий дом, из лучших в поселке, и всегда на замке. И вот, если я наезжал в Дивижен попозже весной или ранним летом, усадьба была обихожена. Двор расчищен, на клумбах цветы, забор и крыша починены. Если же наведывался туда осенью или зимой, двор опять зарастал травой, а в заборе иной раз не хватало досок - то ли местные выдирали их на починку своих заборов, то ли на дрова, кто их знает. И дом всегда заперт; дым из трубы не идет. Вот как-то я и полюбопытствовал - спросил у лавочника, что это за дом, и он мне рассказал.
Домом этим владел один человек. Старнс его фамилия, теперь-то Старнсы все уже померли. Они тут первыми людьми считались, потому - у них земля была, заложенная, правда. Старнс был из тех лентяев, что сидят сиднем на своей земле, покуда им на еду, на табак хватает. У них была единственная дочка, а она возьми да и обручись с пареньком одним, сыном фермера-арендатора. Матери это пришлось не по душе, а сам Старнс вроде не возражал. То ли потому, что тот парень (Стриблинг его фамилия) работать был горазд, то ли ему возражать было лень. Так или иначе, а только они обручились. Стриблинг денег поднакопил и отправился в Бирмингем - учиться на парикмахера. Случалось, его в попутный фургон подсаживали, а нет - топал пешком и каждое лето возвращался в Дивижен - повидаться с невестой.
Потом Старнс помер, как сидел в кресле своем на веранде, так в нем и помер, тамошние говорили, он и помер-то оттого, что ему дышать стало лень. И тогда вызвали Стриблинга. Я слышал, что в бирмингемской парикмахерской у него дела шли хорошо, он уже начал откладывать деньги, рассказывали, квартиру приискал, взнос заплатил за мебель и все такое, и они рассчитывали тем летом пожениться. Он и вернулся. Старнс-то никаких денег, кроме как полученных под залог земли, сроду в руках не держал, так что и за похороны платил Стриблинг. Они ему встали дорого - сам Старнс того не стоил, но надо же было уважить миссис Старнс. И пришлось Стриблингу откладывать деньги сызнова.
Только он снял квартиру, выплатил деньги за мебель, за кольца, выправил разрешение на брак, как опять его вызывают, велят ехать сей же час. С невестой беда. Лихоманка началась у нее. У нас в глуши сами знаете, как болеют. Докторов, ветеринаров не зовут, если они и имеются. Режь их, стреляй - им все нипочем. А насморк схватят и - то ли поправятся, то ли через день-другой помрут от холеры. Когда Стриблинг приехал, она уже бредила. И пришлось ей волосы остричь. Стриблинг и остриг ее - кто ж еще? можно сказать, свой мастер в семье. Рассказывали, она худенькая такая была, хилая девчушка, из тех, что не заживаются, а волосы у нее были густые, не белесые и не чернявые.
Она так и не узнала его, так и не узнала, кто остриг ей волосы. И померла, ничего про то не узнав; видать, не знала даже, что помирает. И все повторяла: "О маме позаботьтесь. Закладная. Папа рассердится, если платеж пропустить. Вызовите Генри. (Это он и был - Генри Стриблинг, Пинкертон. Через год я его встретил в Джефферсоне. "Так вы и есть Генри Стриблинг", говорю.) Закладная. О маме позаботьтесь. Вызовите Генри. Закладная. Вызовите Генри". И померла. От нее осталась всего одна карточка - больше у них не было. Пинкертон послал ее вместе с прядью тех остриженных волос по адресу, что вычитал в фермерском журнале, хотел заказать из волос рамку для карточки. Только и карточка и волосы затерялись, на почте затерялись. Так или иначе - а назад он их не получил.
Похоронил он невесту, и через год (пришлось ему вернуться в Бирмингем, квартиру, что снял, сдать, от мебели отказаться и сызнова деньги начать копить) поставил на ее могиле надгробие. Потом уехал, и пошел слух, что он ушел из бирмингемской парикмахерской. Бросил работу и как в воду канул, а бирмингемские говорили, что еще немного - и он хозяином мог бы стать. Только бросил он работу, а весной, в апреле, перед годовщиной смерти невесты, объявился в родных местах. Приехал навестить миссис Старнс, погостил две недели и отбыл восвояси.
А потом узнали, что он в окружной банк наведал-. ся - заплатить проценты по закладной. И так каждый год, до самой смерти миссис Старнс. Вышло, что она и померла при нем. Он ведь каждый год там жил две недели прибирался и все чинил по хозяйству, чтобы ей без него не знать забот, а она то за честь почитала для него: она ведь его за ровню себе не держала, он против нее совсем из простых был. Потом померла и она. "Помни, что наказывала Софи, - говорила. - Закладная. Мистер Старнс, когда мы свидимся, первым делом спросит про закладную".
Он похоронил и ее. И купил еще одно надгробие, чтобы ее уважить. Потом начал выплачивать основной капитал. У Старнсов какие-то родичи имелись в Алабаме. И народ в Дивижене ждал, что те родичи объявятся и заберут себе усадьбу. Только родичи не торопились, видать, выжидали, пока Пинкертон выплатит залог вчистую. Он каждый год платил взнос в банк, возвращался в родные места и в усадьбе порядок наводил. Говорили, он прибирает не хуже женщины, все в доме моет и скребет. Две недели каждый апрель больше ничем и не занимается. Потом он уезжал, куда - никому не ведомо. И каждый апрель возвращался - вносить в банк деньги и прибирать в пустом доме, который и не был его никогда. Он уже пять лет так жил, когда я увидел его в Джефферсоне, у Макси, через год после того, как встретил в Портерфилде, в том же диагоналевом костюме и черной бабочке. Макси говорил, он в них же и с поезда слез, что шел на юг, и тот же картонный чемодан нес. Макси говорит, они два дня смотрели, как он слоняется по площади: похоже, он никого тут не знает, и дел у него тут нет, и торопиться некуда; вот он и слоняется - осматривается, что тут да как.
Это те парни, лоботрясы те, что дни напролет развлекаются расшибалочкой в клубном дворе, ждут не дождутся конца дня, когда девчонки - бедрами на ходу вихляют, духами от них так и разит, с хихань-ками да хаханьками повалят к киоску с газированной водой и на почту, - дали ему такую кличку. Они говорили, он сыщик, потому, видать, что на сыщика он меньше всего походил. Только они прозвали его Пинкертоном, и он так Пинкертоном и пробыл все те двенадцать лет, что простоял за креслом у Макси в Джефферсоне. Пинкертон рассказал Макси, что он родом из Алабамы.
- Из каких мест? - говорит Макси. - Алабама штат большой. Из Бирмингема? - говорит Макси, потому что по Пинкертону видать, что он не из Бирмингема, откуда угодно в Алабаме, только не из Бирмингема.