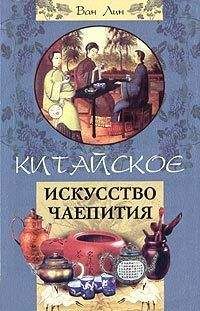Даже г-н Роберт Люис Стивенсон, этот великолепный мастер причудливо изяшной прозы, запятнал себя этим новомодным пороком - мы решительно не можем подобрать иного названия для этого явления. Попытка сделать произведение слишком правдивым лишает его реалистичности, и "Черная стрела" является столь низкохудожественным произведением, что не может похвастаться даже тривиальным анахронизмом, а превращение доктора Джекилла подозрительно напоминает описание какого-то эксперимента в Ланцете7. Что же касается г-на Райдера Хаггарда8, у которого есть, или в свое время были, задатки поистине превосходного лгуна, то он уже настолько боится быть заподозренным в гениальности, что когда он все-таки рассказывает нам что-нибудь замечательное, ему непременно требуется сослаться в трусливом примечании на личный опыт. Остальные наши писатели, впрочем, ничем не лучше. Г-н Генри Джеймс9 пишет так, как будто исполняет тяжелую повинность, и растрачивает свой изящный литературный стиль, меткие выражения и колкую сатиру на низкие побуждения и трудноразличимые воззрения. Г-н Холл Кейн10, надо признать, ставит перед собой грандиозные задачи, но его книги - сплошной вопль, за которым не слышно слов. Г-н Джеймс Пейн11 преуспел в искусстве сокрытия того, чего и искать не стоит. Он преследует очевидное с энтузиазмом недальновидного детектива. По мере приближения к концу повести, нервное напряжение автора становится все невыносимее. Лошади, запряженные в колесницу г-на Вильяма Блэка, не рвутся к солнцу12. Они всего лишь вгоняют закатное солнце в краску с кошмарным хромолитографическим отливом. При их приближении крестьяне бегут искать убежища в диалектах. Г-жа Олифант13 мило щебечет о приходских священниках, теннисе на лужайке, домашнем быте и прочем занудстве. Г-н Марион Крофорд14 принес себя в жертву на алтаре местного колорита. Он - точно, как та дама из французской комедии, что вечно твердит о le beau ciel d'Italie15. Кроме того, он завел себе дурацкую привычку изрекать банальности. Он без конца толкует нам о том, что хорошее - хорошо, а плохое - плохо. Временами он почти опускается до поучений. "Роберт Эльсмер", конечно, шедевр - шедевр в стиле genre ennuyeux16, который, по всей видимости, приводит англичан в полный восторг. Наш вдумчивый юный друг сказал мне однажды, что это напоминает ему о разговорах, которые ведут за чаем в убежденных нонконформистских17 семьях, и это звучит вполне правдоподобно. Англия - поистине единственное место, где могла появиться на свет подобная книга. Англия - страна утраченных идей. Что же касается той великой и ежечасно растущей школы романистов, для которых солнце всегда встает на East End18, то о ней можно сказать лишь одно: они берут жизнь незрелой, и оставляют ее сырой.
Хотя во Франции и не произвели на свет ничего столь умышленно занудного, как "Роберт Элсмер", дела там обстоят немногим лучше. Г-н Ги де Мопассан, с его колкой иронией и жестким, прямолинейным стилем, лишает жизнь тех жалких одежд, что еще прикрывают ее наготу, и являет нам омерзительные раны и гнойные язвы. Он пишет душещипательные трагедийки, напичканные нелепыми персонажами, и горьковатые комедии, над которыми не возможного смеяться из-за ручьев слез. Верный высокому принципу, провозглашенному в его очередном литературном манифесте, L'homme de genie n'a jamais d'esprit, г-н Золя твердо решил доказать окружающим, что если гениальности ему и не дано, то уж занудства у него предостаточно; и необычайно в том преуспел. В его произведениях что-то есть; в некоторых из них, как в "Жерминаль", есть даже что-то от эпоса. Но все, им написанное, ложно от начала до конца, но с точки зрения не морали, а искусства. Если исходить из любой этической системы, все в полном порядке. Автор абсолютно правдив и предельно точно описывает происходящее. Что еще нужно моралисту? Мы абсолютно не разделяем моральное негодование современников в отношении г-на Золя. Это всего лишь негодование выставленного напоказ Тартюффа. Но что можно сказать в пользу автора "Западни" или "Нана" с позиций искусства? Ничего. Г-н Раскин как-то сказал, что герои романов Джорджа Элиота19 представляют собой ошметки на полу Пентонвилльского омнибуса; так вот герои г-на Золя куда хуже. Их добродетели по степени своей тоскливости превосходят их грехи. Их жизнеописание не представляет собой абсолютно никакого интереса. Кого трогает их судьба? В литературе нужны оригинальность, очарование, красота и воображение. Совершенно не требуется терзать и изводить нас подробным описанием жизни низов. Г-н Додэ20 куда лучше. Он остроумен, и у него легкая рука и забавный стиль. И все же недавно он совершил литературное самоубийство. Решительно никого не может тронуть ни Делобель с его "Il faut lutter pour l'art", ни Вальмажур с его вечным припевом про соловья, ни поэт из "Jack" с его "mots cruels" после того, как нам сообщили в Vingt Ans de ma Vie litteraire21, что эти персонажи были взяты из жизни. Они внезапно утратили для нас всю свою живость и те немногие качества, что у них когда-либо были. Единственные настоящие люди - это те, кого никогда не было, и если писатель опускается до того, чтобы брать своих персонажей из жизни, то следует, по крайней мере, сделать вид, что они придуманы, а не хвастаться тем, что они списаны. Наличие персонажа в романе объясняется не тем, что люди такие, какие они есть, а тем, что автор такой, какой он есть. В противном случае, роман не есть произведение искусства. Что же касается г-на Поля Бурже22, мастера roman psychologique, то он пребывает в том заблуждении, что современных мужчин и женщин можно бесконечно анализировать в несчетном числе глав. Что понастоящему интересно в уважаемых светских людях - а г-н Бурже редко выезжает из Сен-Жермена иначе, как для визитов в Лондон - это их маски, а не то, что действительно под ними находится. В этом унизительно признаваться, но все мы сделаны из одного теста. В Фальстафе есть что-то от Гамлета, а в Гамлете немало от Фальстафа. У толстяка-рыцаря случаются свои приступы меланхолии, а у юного принца - заходы грубого юмора. Нас отличают друг от друга чистые случайности: манера одеваться, держаться, тембр голоса, религиозные убеждения, внешность, мелкие привычки и тому подобное. Чем больше анализируешь людей, тем меньше остается причин для анализа. Рано или поздно упираешься в эту кошмарную первооснову, именуемую человеческой природой. Всякому, кто когда-либо работал среди бедняков, слишком хорошо известно, что человеческое братство - не просто мечта поэта, а исключительно гнетущая и унизительная реальность. И если писателю непременно угодно проводить анализ высших слоев общества, то он мог бы сразу перейти к описанию уличных торговцев и девочек со спичками." На самом деле, я бы не стал сейчас вдаваться в дальнейшие рассуждения на эту тему. Я вполне признаю, что современные романы обладают своими достоинствами. Единственное, на чем я настаиваю, это на том, что, как жанр, они совершенно невозможны.
С.: Это, несомненно, очень серьезное утверждение, но мне, признаться, кажется, что твоя критика не вполне справедлива. Мне нравятся "Судья", "Дочь Хета", "Мистер Айзекс" и "Ученик", а что касается "Роберт Элсмер"23, то к этой книге я очень привязан. Не то, чтобы я был готов воспринимать ее всерьез. Как описание проблем, стоящих перед честным христианином, это нелепо и старо. Больше всего это похоже на "Литературу и догму" Арнольда за вычетом литературы. Это настолько же отстало от времени, как как "Свидетельства" Пали или метод толкования Библии Коленсо24. Ничто не может быть менее впечатляющим, чем злосчастный герой, возвещаюший давно взошедшую зарю, и настолько не осознающий ее истинное значение, что немедленно берется старое под новым именем. С другой стороны, в этой книге есть несколько остроумных пародий и куча замечательных цитат, и философия Грина приятно подслащивает за горьковатую пилюлю авторского изложения. Меня также не могло не удивить то, что ты никак не упомянул Бальзака и Мередита25, которых ты постоянно читаешь. Они ведь оба реалисты, не так ли?
В.: Ах, Мередит! Куда же его отнесешь? Его стиль - хаос, озаряемый вспышками молний. Ему, как писателю, подвластно все, кроме языка; как романист, он освоил все искусства, кроме повествования; как художник, он обладает всеми достоинствами, кроме способности к самовыражению. Кто-то у Шекспира - кажется, Оселок - упоминает человека, который вечно ломает себе ноги о собственные остроты26 [А1], и мне это представляется неплохой отправной точкой для критики стиля Мередита. Но кем бы он ни был, он не реалист. Я бы скорее сказал, что он сын реализма, который рассорился с собственным родителем. Он сознательно стал романтиком. Он не преклонился пред Ваалом, и, помимо всего, даже если тонкая душа художника не взбунтовалась против наглых притязаний реализма, то уже только его стиля достаточно, чтобы держать жизнь на изрядном расстоянии. Этот стиль окружает его сады колючими кустами изумительных роз. Что же касается Бальзака, то в нем исключительно ярко сочетались художественная натура и дух исследователя. Последний он завещал своим ученикам; первая же часть безраздельно принадлежала ему самому. Между "Утраченными иллюзиями" Бальзака и "Западней" Золя такая же разница, как между образным реализмом и безобразной реальностью. "Все герои Бальзака", писал Бодлер, "наделены той же бьющей через край жизненной силой, которой был движим он сам. Все его произведения насыщены красками, как сны. Сознание каждого героя заряжено волей до предела. Даже поварята, и те гениальны." Регулярное чтение Бальзака превращает наших друзей в тени, а наших знакомых - в тени теней. Его герои ведут горячечное существование с пламенным отблеском. Они овладевают нашим сознанием, попирая скептицизм. Одна из величайших трагедий моей жизни - смерть Люсьена де Рюбемпре. Это горе никогда не покидает меня до конца. Оно преследует меня в самые радостные моменты, и я помню о нем, смеясь. Но Бальзак - не более реалист, чем Гольбейн. Он создал жизнь, а не списал ее. Тем не менее, я признаю, что он уделял слишком много внимания современной форме изложения, и потому ни одну из его книг нельзя, как литературный шедевр, поставить рядом с "Саламмбо", Эсмондом, "Обитель и очаг"27 или "Виконт де Бражелон".