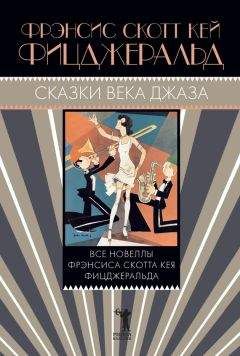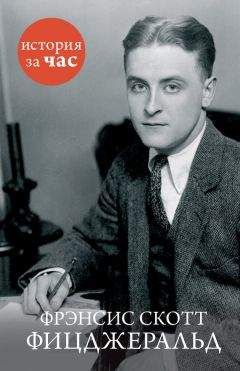На мой взгляд, все, что было эротического в этих книгах, даже в "Шейхе", предназначавшемся для детей и написанном в манере "Питера-кролика", не содержало ни крупицы вреда. То, что в них описывалось - дай гораздо больше, - было отнюдь не в новость; мы это знали по окружавшей нас жизни. В большинстве своем высказываемые авторами соображения отличались искренностью и стремлением устранить неясности, и в итоге эти книги помогали вернуть какое-то значение такому понятию, как "мужчина", вытесненному в американской жизни другим понятием "супермен". ("А что такое супермен? - спросила как-то Гертруда Стайн. - Вы не находите, что в это понятие уже не укладывается то, что прежде подразумевалось под словом "мужчина"? Подумать только, супермен!") Замужним женщинам была теперь дана возможность самим для себя определить, не проигрывают ли они в браке и действительно ли секс нечто такое, что надо, как им намеками давали понять их матушки, научиться молчаливо терпеть, вознаграждая себя тиранией над супругом в области духовной. Быть может, впервые для многих женщин открылось, что любовь должна быть радостью. Как бы то ни было, велеречивые ревнители устаревших норм проиграли в этой войне, что, кстати, и сделало среди прочего нашу современную литературу самой жизнеспособной в мире.
Вопреки распространенному мнению фильмы Века Джаза не оказали никакого влияния на его представление о морали. Социальная позиция постановщиков отдавала трусостью и банальностью и не отвечала эпохе; скажем, о молодежи и не пытались, пусть даже очень поверхностно, рассказать в кино вплоть до 1923 года, когда существовали уже особые журналы, посвященные новому поколению, и само оно давно уже ни для кого не было новостью. Лишь тогда и в кино начались робкие и бестолковые попытки что-то сказать по этому поводу, появилась "Пылающая юность" с Кларой Бау, а затем голливудские поденщики, подхватив тему, тут же ее и угробили. Весь Век Джаза дело в кино не шло дальше миссис Джинне, что вполне соответствовало присущей кино грубости и пошлятине. Это, конечно, объяснялось не только спецификой кино, но и строгостями цензуры. А Век Джаза, изобретя свой собственный мотор, уже катил на полной скорости по широкой дороге, притормаживая лишь на больших заправочных станциях, где ключом били деньги.
Его карнавальная пляска увлекла людей, которым было за тридцать, людей, уже подбирающихся к пятидесяти. Мы, старички (пусть содрогнется Ф.П.А.), помним, какой шум поднялся в 1912 году, когда женщины, к сорока успевшие стать бабушками, забросили подальше свои костыли и принялись брать уроки танго и тустепа. Прошло десять лет, и женщина могла уже, собираясь в Европу или в Нью-Йорк, положить в чемодан и свою Зеленую шляпу, не боясь, что ее пригвоздит взгляд Савонаролы: тот был слишком занят - нахлестывал дохлых лошадей в собственноручно им выстроенных авгиевых конюшнях. В обществе, даже самом провинциальном, стало обычаем обедать в отдельных кабинетах, и стол трезвенников мог узнать о расположившемся поблизости более оживленном столе только из лакейских пересудов. Да и сильно поредело за столом трезвенников. Неизменно украшавшая его раньше юная особа, не пользующаяся успехом и уже смирившаяся было с мыслью, что останется старой девой, в поисках интеллектуальной компенсации открыла для себя Фрейда и Юнга и снова ринулась в бой...
Году к 1926-му все просто помешались на сексе. (Вспоминаю, как одна молодая мамаша, вполне счастливая в браке, спрашивала у моей жены, "не имеет ли смысла завести прямо сейчас интрижку", никого конкретно не имея в виду, просто: "Вам не кажется, что после тридцати лет это уже как-то унизительно?") Было время, когда нелегально продававшиеся пластинки с негритянскими песенками, полными эвфемизмов во избежание откровенно фаллической лексики, побудили подозревать такого рода символы повсюду, и одновременно поднялась волна эротических пьес; как ни протестовал Джордж Джин Нэтэн, школьницы выпускных классов набивались на галерку, чтобы узнать наконец, сколь романтично быть лесбиянкой. Дошло до того, что один молодой режиссер совсем потерял голову, выпил спиртовой экстракт, который какая-то красотка употребляла для ванны, и угодил за решетку. Эта самоотверженная попытка ухватить за хвост романтику все-таки была в духе Века Джаза; а сидевшей в тюрьме в одно с ним время Рут Снайдер романтический ореол создали бульварные газеты: "Дейли ньюс" со смаком писала на потеху гурманам, как она будет "поджариваться, шипя и дымясь", на электрическом стуле.
Те в нашем обществе, кто вознамерился жить весело, разбились на два основных потока: один устремился к Палм-Бич и Довилю, а другой, пожиже, к летней Ривьере. На летней Ривьере все сходило с рук, и получалось, что все каким-то образом имеет отношение к искусству. В великие годы мыса Антиб, в годы 1926-1929, в этом уголке Франции верховодила группа людей, очень отличавшихся от того американского общества, где верховодили европейцы. На мысе Антиб занимались всем, чем угодно; к 1929 году в этом роскошнейшем на Средиземноморье уголке для пловцов никто и не думал купаться, разве что для протрезвления окунались разок среди дня. Над морем живописными крутыми уступами высились скалы, и с них, случалось, ныряли чей-нибудь лакей или забредшая сюда молодая англичанка, но американцев совершенно удовлетворяли бары, где можно было посудачить друг о друге. По их поведению чувствовалось, что происходит у них на родине; американцы размагничивались. Признаки этого встречались повсюду; мы по-прежнему побеждали на Олимпийских играх, но имена наших чемпионов все чаще состояли чуть ли не сплошь из согласных, команды подбирались из недавно приехавших к нам носителей свежей крови, как "Нотр-Дам" - сплошь из ирландцев. Стоило французам как следует заинтересоваться теннисом, как чуть ли не автоматически Кубок Дэвиса уплыл из наших рук. Пустыри в городах Среднего Запада теперь застраивались - спорт для нас кончался вместе со школой, оказалось, что мы по сути не спортивная нация, не то что англичане. Прямо как в басне про зайца и черепаху. Ну конечно, если уж нам сильно захочется, мы живо наверстаем упущенное, запас энергии, доставшийся от предков, еще не истощился; но вот в 1926 году мы вдруг обнаружили, что у нас дряблые руки и заплывшее жиром брюшко и что лучше нам не задирать сицилийцев. Мир праху твоему, Ван Биббер! - видит бог, не надо нам никаких утопических прожектов. Даже гольф, в свое время почитавшийся игрой для неженок, стал казаться не в меру утомительным - появился какой-то ублюдочный его вариант и тут же всем пришелся по вкусу.
К 1927 году повсюду стали явственно выступать приметы нервного истощения; первым, еще слабым его проявлением - вроде подрагивания колен было увлечение кроссвордами. Помню, как один мой знакомый, уехавший на постоянное жительство в Европу, получил от нашего общего приятеля письмо, в котором тот настойчиво звал его вернуться домой и начать новую жизнь, черпая силы для нее в здоровом, бодрящем воздухе родных мест. Письмо было написано страстно и произвело на нас обоих большое впечатление, но, взглянув на штамп в углу листка, мы увидели, что оно отправлено из лечебницы для душевнобольных в Пенсильвании.
То было время, когда мои сверстники начали один за другим исчезать в темной пасти насилия. Один мой школьный товарищ убил на Лонг-Айленде жену, а затем покончил с собой; другой "случайно" упал с крыши небоскреба в Филадельфии, третий - уже не случайно - с небоскреба в Нью-Йорке. Одного прикончили в подпольном кабаке в Чикаго; другого избили до полусмерти в подпольном кабаке в Нью-Йорке, и домой, в Принстонский клуб, он дотащился лишь затем, чтобы тут же испустить дух; еще одному какой-то маньяк в сумасшедшем доме, куда того поместили, проломил топором череп. Обо всех этих катастрофах я узнавал не стороной - все это были мои друзья; мало того, эти катастрофы происходили не в годы кризиса, а в годы процветания.
Весной 1927 года небосклон озарился неожиданно яркой вспышкой. Один молодой миннесотец, казалось решительно ничем не связанный со своим поколением, совершил поступок подлинно героический, и на какой-то миг посетители загородных клубов и подпольных кабаков позабыли наполнить рюмки и вернулись памятью к лучшим стремлениям своей юности. Может, и вправду полеты - это средство бежать от скуки, может, наша беспокойная кровь поугомонится, если мы окунемся в бескрайний воздушный океан? Да вот беда к этому времени все мы уже очень глубоко вросли в ту жизнь, которой жили, и Век Джаза не кончился, а значит, надо было просто выпить еще по одной.
Но вместе с тем американцы все дальше разбредались по свету - друзья вечно куда-то уезжали: в Россию, в Персию, в Абиссинию, в Центральную Африку. И уже к 1928 году в Париже нечем стало дышать. С каждым новым пароходом, доставлявшим из-за океана очередную партию американцев, изверженных из глубинки процветанием, обаяние Парижа развеивалось; и наконец эти безумные пароходы стали казаться чем-то зловещим. Теперь на них прибывали не простодушные папа и мама с дочкой и сыном, куда более сердечные и любознательные, чем такие же папы и мамы в Европе. Приезжали какие-то неандертальские чудища, которых гнало в Европу смутное воспоминание о чем-то вычитанном в грошовом романе. Мне вспоминается один итальянец, который разгуливал по палубе в форме офицера запаса американской армии, а в баре затевал на ломаном английском языке перебранки с американцами, позволившими себе нелестно отозваться об американских порядках. Вспоминается толстая еврейка, инкрустированная бриллиантами, которая сидела за нами на спектакле русского балета и, когда поднялся занавес, изрекла: "Шудесно, шудесно, надо это срисовать на картину". Все это отдавало фарсом, но становилось понятно, что власть и деньги очутились теперь в руках людей, по сравнению с которыми председатель деревенского совета у большевиков выглядел просто светочем культуры. В 1928, 1929 годах попадались американцы, обставлявшие свое путешествие с такой роскошью, которая только подчеркивала, что в смысле духовном самой подходящей для них компанией были бы мопсы, двустворчатые моллюски и парнокопытные. Помню, как писали об одном нью-йоркском судье, который отправился с дочерью осматривать гобелены в Байе и закатил истерику в газетах - он требовал немедленно убрать гобелены с глаз публики, поскольку нашел неприличным один из сюжетов. Но в те дни жизнь уподобилась состязанию в беге из "Алисы в стране чудес": какое бы ты место ни занял, приз все равно был тебе обеспечен.