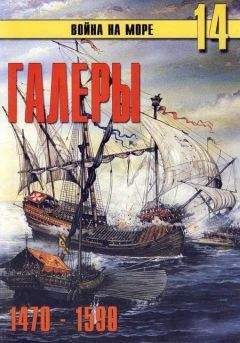– Да, все это мне известно; мне известно также и то, что после Альбин прогнал его как безумца. Ему бы с этого и следовало начать. Пророк твой – некто иной, как безумец Зеведей, который, как говорят, не перестает юродствовать таким образом в течение семи лет и пяти месяцев, без малейшей устали и даже без малейшего ущерба для своего здоровья и своего голоса. Поверь мне, Флавий, если бы предсказание твое относительно Веспасиана не имело иного основания, ни ты, ни он, вы не пользовались бы теперь таким влиянием и такою властью. Право, досадно видеть, как люди, подобные тебе, окружают лучезарным сиянием пророков легкомысленные головы и принимают за откровения неба бред больных и омраченных страхом умов.
– Ты, Ревекка, – девушка ужасно неверующая. Неужели ты станешь отвергать и то, что написано в священных книгах, – что, когда храм превратится в четырехугольник, и храм, и город подпадут под власть неприятеля?
– Этого я не отрицаю. Я замечу тебе только, что это означает лишь то, что город и храм будут во власти неприятеля лишь тогда, когда неприятелю удастся овладеть ими И к этому я прибавлю еще следующее: мы считаем, что среди нас должен появиться человек, который будет повелевать всем миром. Ты увидел этого человека в Веспасиане. Всякий волен толковать явления по-своему. Для нас же истина заключается только в Торе, слове Иеговы, и в мудрых речах истинных служителей его. Иегова же не допускает на земле иной верховной власти, кроме своей. Всякое толкование Его слова в смысле раболепства перед иной волей есть не что иное, как ложь, как клевета на Него.
– Ревекка, – сказал Флавий, с трудом сдерживая свое раздражение, – ты повторяешь то, что говорят дорогие твоему сердцу "непримиримые". Но все же ты не права. Что бы ты ни говорила, дело их – дело безнадежное, а их ослепление не поведет ни к чему иному, кроме гибели Иерусалима.
– Нет, Флавий, если ты только согласишься исполнить мою просьбу и призовешь их быть благоразумными.
– Я не могу этого сделать.
– Ты забываешь, что в Иерусалиме живут твоя мать и твой брат? Неужели ты можешь допустить, чтоб они умерли от голода и от жажды? Неужели ты не сделаешь ничего для того, чтобы спасти от истребления избранный народ?
– Я тебе уже сказал, что я не люблю действовать зря. Я обдумал все последствия того шага, которого ты от меня требуешь. Хотя мне и неудобно отказать тебе, но так как я глубоко уверен в бесполезности моего шага, то я его не сделаю…
Уже вечерело. Блестящая вечерняя звезда появилась на восточном небосклоне и озаряла своим бледным светом далекие горы. Ревекка встала и подошла к окну.
– Флавий, – сказала она, – неужели наука халдеев, в которой ты так сведущ, не в состоянии объяснить тебе сочетание этой звезды и звезды Арктуруса, которая сейчас взойдет над гробницами наших царей?
– Нет, не в состоянии, – ответил Иосиф, улыбнувшись.
– Ну, так я в этом деле более сведуща, чем ты, Флавий. Звезда эта говорит мне, что ты ошибаешься, уверяя, что ты не сделаешь того, чего я от тебя требую, и она говорит правду.
Ревекка произнесла слова эти твердым, уверенным голосом. Иосиф не мог понять этой ее надменной уверенности и продолжал улыбаться как человек, уверенный в себе и в безошибочности своего решения. Но улыбка его моментально исчезла, как только женщина, которую он до сих пор принимал за служанку, откинула свое покрывало.
– Елисавета! – воскликнул он удивленно. – Кто привел тебя сюда? Чего тебе от меня нужно?
– Я хочу, чтобы ты исполнил то, чего требует от тебя Ревекка.
Елисавете известны были слабые стороны Иосифа Флавия, она рассчитывала добиться успеха.
– Ты любишь славу, Флавий, – сказала она, – ты желаешь казаться человеком мудрым и справедливым. Но я сорву с тебя эту личину, которой ты так долго морочил людей. Я скажу все: что ты делал в пещере, скрываясь от погони, что ты говорил Гликерии, твоей жене, пленнице Веспасиана, на которой ты женился из желания угодить ему, а также и о том, что заставило тебя покинуть ее. Я потребую у тебя отчета, в присутствии Береники и Тита, в твоем недостойном поведении относительно меня, относительно моей дочери. Я скажу им: "Этот человек, надевающий на себя личину добродетели, нарушил святость семейного очага…"
Опасение быть разоблаченным подействовало на Иосифа сильнее, чем какие-либо иные соображения.
– Мне нужно несколько дней для размышления, – сказал он, – теперь же я могу обещать только то, что я сделаю все от меня зависящее для того, чтобы склонить Тита к предъявлению условий мира.
– Нет, не того я от тебя требую, – сказала Елисавета. – Ты должен поклясться в присутствии Ревекки, что ты лично прибудешь в Иерусалим с мирными условиями от имени Тита; ибо только ты в состоянии довести это дело до конца.
– Хорошо, я и на это согласен, – сказал он. – Я воспользуюсь первым удобным случаем.
– Нет, это должно быть сделано сегодня же, – перебила его Ревекка, понимая, что нельзя медлить, – или самое позднее – завтра.
Иосиф обещал то, чего от него требовали, и проводил женщин с любезностью фарисея, делающего вид, будто он добровольно делает то, что его заставили сделать.
Ревекка написала Симону о замыслах римлян, затем, расспросив Елисавету подробнее о положении города, она написала ему о своем плане посетить Иерусалим.
Ее удивляло молчание Симона в его письме о тех чувствах, которые он питал к ней; в его письме не было ни единого слова ласки или симпатии, не говоря уже о любви. Сначала она подумала, что он не нашел удобным писать об этом и что, быть может, он поручил Елисавете передать на словах что-нибудь такое, что могло бы успокоить ее, но, видя, что Елисавета собирается уходить, и поняв, что ей нечего от нее ждать, она вдруг почувствовала, что сомнение, точно змея, заползает в сердце. Молчание Симона заставило проснуться в ее душе демона ревности.
– А что, Зеведей в Иерусалиме? – спросила она как бы между прочим, – и неужели ему все еще позволяют беспрепятственно выкрикивать свои зловещие предсказания?
– Да, – ответила Елисавета, несколько удивившись, – впрочем, все уже давно привыкли к его крику. И к тому же у нас есть пророки, которые проповедуют войну и которых народ слушает.
– Это все, конечно, пустяки, – продолжала Ревекка равнодушным тоном, – однако, если бы я была в Иерусалиме, я бы, мне кажется, посоветовала Симону заставить его замолчать. Ты слышала, что только что сказал Иосиф Флавий: "Бессмысленные предсказания причиняют больше вреда, чем обыкновенно предполагают; ими пользуются против нашего святого дела; эти возгласы, раздающиеся из бездны, приписываются самому Иегове". Я прошу тебя, Елисавета, как женщину умную, обратить на это обстоятельство внимание Симона, если только у него нет каких-либо особых причин, чтоб оставлять свободно болтать этого зловещего прорицателя, – и, помедлив с минуту, она наконец спросила: – А что, племянница его Эсфирь тоже в Иерусалиме?
Вопрос этот не удивил бы Елисавету, но её поразило выражение, с которым были произнесены эти слова. Она сразу угадала, что Ревекка любит, и притом любит именно Бен Гиору. Это открытие опечалило ее, так как Симон только что женился на Эсфири. Ей не хотелось говорить ничего такого, что могло бы повредить Симону или Ревекке, которую она любила. Сказать ей всю правду значило бы нанести ей смертельный удар. Поэтому она постаралась обойти вопрос и сказала лишь часть правды.
– Кажется, племянница Зеведея живет при своем дяде; впрочем, я в этом не уверена. Во всяком случае, она живет в уединении, в пещере в нижней части города. Ты знаешь, что она принадлежит к так называемой христианской секте.
– Говорят, она красавица. Ты не знаешь, замужем ли она?
– Да, она замужем, по крайней мере так говорили мне. Впрочем, подобного рода вещи меня мало интересуют; у нас есть дела поважнее.
– Ты права, – ответила Ревекка, вздохнув, – нам теперь некогда заниматься этими вещами.
Елисавета собиралась уходить, и Ревекка не удерживала ее.
– До свидания, – сказала она. – Через несколько дней, если будет возможно, я постараюсь побывать в Иерусалиме. Скажи об этом Симону. Я хотела бы еще раз увидеть храм, прежде чем он будет разрушен, если только ему суждено быть разрушенным. Быть может, мне доведется быть похороненной под развалинами его вместе с тем, что я люблю…
От Ревекки не скрылось, что Елисавета невольно вздрогнула, когда она спросила ее, замужем ли Эсфирь; она, впрочем, постаралась даже улыбнуться, пытаясь скрыть то, что происходит в душе ее. Но, оставшись одна, она почувствовала, что силы оставляют ее.
– Да, я отправлюсь в Иерусалим, – прошептала она. – Я войду туда с мыслями о любви, но как бы мне не довелось выйти оттуда с мыслями ненависти и мщения…
Прежде чем возвратиться в Иерусалим, Елисавета открыла Бен Адиру тайну женитьбы Симона на Эсфири и поручила ему сообщить об этом своей госпоже следить за Ревеккой. Он провел почти всю ночь возле ее спальни, сдерживая дыхание, внимательно прислушиваясь к происходившему в ее комнате. Для него не могло оставаться ни малейшего сомнения в том, что госпожа страдает и что виновник ее огорчения – Симон.