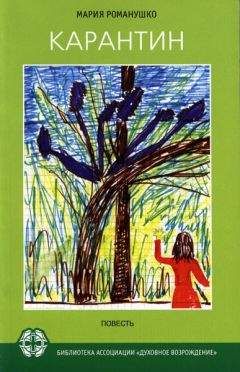Ознакомительная версия.
Глубокая ночь. Часы остановились. Свечка моя догорает… Ксюнечка посапывает в обнимку с Пингвином… Опять полная луна смотрит в наше окно – как в первую нашу ночь в больнице.
Карантин… Что такое карантин? Это когда никуда не идёшь, не спешишь, не суетишься, время замедлило свой ход – и есть, наконец, возможность вспомнить обо всех, и покаяться перед всеми, и почувствовать, как любишь тех, о ком вроде бы давно и навсегда забыла…
* * *
А ведь только и нужно, что встать утром перед Богом и попросить Его обо всех, кого любишь.
Какая же это великая сила – молитва! Как остро я ощутила это здесь, в больнице. Постоянно чувствую, что я с детьми – в чудодейственном кольце молитв. Все наши друзья молятся за моих детей, и мы с Гавром, и святые молятся, к которым я обращаюсь, и Богородица…
И Господь отвёл беду. То, как мои дети вышли из дифтерии – это чудо.
Только молитвами были спасены.
Вторая больничная тетрадь
Больше Ксюша своё горло врачам не показывает. Потому что в какой-то момент (через три недели ежедневных осмотров) она (где-то внутри себя) решила: “Хватит!” И больше рта не открыла. Во время утренних обходов она, крепко сжав губы, угрожающе скрипит зубами внутри закрытого рта…
Мы живём удивительно тихо и мирно.
Но творческие споры достигают большого накала! Я тут вышивала Клоуна на салфетке… Так мы чуть не до слёз спорили: какого цвета должен быть у Клоуна шарик?
Побеждает почти всегда Ксюша. Она спорит отчаяннее – и я сдаюсь. И вот что удивительно и радостно: я ни разу не пожалела, что уступила ей в споре. “Вот видишь! я же говорила, что он таким должен быть!” – удовлетворённо отмечает Ксюша.
Да, у неё в её четыре года есть чутьё и есть вкус, данные ей от рождения, от природы. И в наших бурных творческих спорах она учится отстаивать своё виденье, а я учусь ей доверять. Кто-то, может быть, скажет мне: “Ну, что ты слушаешься маленького ребёнка? Это же несолидно! Ты роняешь свой родительский авторитет”.
Ну, во-первых: я ненавижу, когда семья – авторитарное государство, где всё решается родительским жёстким: “Как я сказал(а) – так и будет!” О, как я это ненавижу!… Такого в нашей семье никогда не было и не будет.
Во-вторых: споры-то у нас творческие! А в творческих спорах все стороны равны, невзирая на рост и возраст. В творчестве вообще все равны пред Богом.
И, в-третьих: я не слушаюсь, а – СЛУШАЮ. Я учусь СЛЫШАТЬ своего ребёнка. И родительский авторитет от этого ничуть не падает, а как раз наоборот.
Тогда почему я с Ксюшей всё-таки спорю, если так доверяю ей? – Но я ведь тоже имею свой взгляд на вещи! И если я с ней буду тут же соглашаться, она не узнает, что на вещи можно смотреть с разных сторон. И не научится СЛЫШАТЬ другого человека. И не научится уступать. А без этих умений в жизни – как прожить? Так что, споря по такому, казалось бы, пустячному вопросу: “Какого цвета у Клоуна должен быть шарик?” – мы с Ксюшей РАБОТАЕМ НА ЕЁ БУДУЩЕЕ.
Как любит повторять наш папочка, родители для детей – полигон, на котором дети проигрывают всевозможные жизненные ситуации.
Думаю, что когда-нибудь настанет и такой момент, когда Ксюша по какому-то поводу скажет мне: “Ты права, я с тобой согласна”. Когда это произойдёт? Не знаю… Все сроки – в руках Божиих. А наше дело, как любит повторять Гавр, – стараться.
* * *
Один новенький мальчик не выдержал и двух дней – сбежал домой. Тем детям, которые здесь без мам, – очень тяжело. Ребятишки всё время вьются вокруг нашей палаты, говорят: “Как у вас интересно! Как у вас красиво!” Без конца идут за чем-нибудь: за фломиками, за бумагой, за ножницами, кнопками и т.д. Они знают, что у нас есть ВСЁ. И что я не откажу.
Ко многим детям родители не только не ходят, но даже не интересуются: как тут их чада? Многие бродят по отделению оборванные и голодные. Всё время кого-нибудь подкармливаем. Жалко всех ужасно. И Клавочку, у которой в семье шестеро детей, а мать – пьяница, и Юрочку-террориста, к которому мать приходила всего два раза за целый месяц.
Но вот татарчонка Серёжку мне уже почти, почти не жалко. Очень неприятный оказался мальчишка. И не потому, что дерётся. Они тут все дерутся (а где мальчишки не дерутся?) Замкнутое пространство и скука возбуждают агрессию. И Серёжка тоже машет кулаками и, к тому же, пребольно, злобно щиплется. Вот эти щипки особенно достают ребят.
Почти все мальчишки любят покрасоваться: вот какой я в драке! Так что вокруг дерущихся всегда кружок сочувствующих болельщиков. И только Серёжка предпочитает драться без свидетелей. На вид совсем заморыш, он на самом деле жилистый и сильный, нападает даже на ребят старше себя и выше ростом. А малышей так и вовсе держит в страхе. Нападает где-нибудь в пустом коридорном закоулке, или в туалете, – и жалит, как маленький скорпион! А пока ужаленный ревёт и зализывает раны, Серёжка быстренько бежит в “сестринскую” и… жалуется на то, что его, Серёжку, побили! И медсёстры в утешение подкармливают его. Такого на вид жалкого-жалкого, безобидного и беззащитного…
Серёжка сообщает в “сестринскую” не только о мнимых побоях, но и о многом другом. Мальчишки его тихо ненавидят и называют доносчиком, стукачом, сексотом. Жертвы Серёжкиных доносов подвергаются самому страшному (для детей) наказанию: их надолго запирают в боксах.
И кто их оттуда выпускает? Ксюшина мама. Серёжка сообщил в “сестринскую” и эту ценную информацию. Мне уже была выволочка от старшей медсестры.
Но никто из детей жаловаться на Серёжку не рискует, – боятся его щипков.
Я не сразу во всём этом разобралась, ведь тоже вначале жалела и подкармливала его, удивляясь тому, что, как и Юрочку-террориста, его невозможно накормить досыта.
Но теперь у меня к Серёжке брезгливость. Никакие душеспасительные беседы не помогают – он молча смотрит, не мигая, своими узкими и тёмными, совершенно чёрными глазами, в которых невозможно отличить зрачок от радужной оболожки. Где эта радужная оболочка?… Два чёрных, в упор глядящих зрачка. Ему не стыдно. Он ничуть не смущён тем, что я всё знаю. После очередного нашего с ним разговора (точнее – моего с ним, ведь он молчит), я с надеждой думаю: может, до него хоть на этот раз что-то дошло?…
Но всё продолжается: жалит потихоньку по углам и бегает в “сестринскую” за очередным поощрительно-утешительным куском…
Вот такой субъект этот Серёжка. Интересно, где он учился подлости? Неужели жизнь ему уже успела преподать такие страшные уроки? Или же эти способности, как и иные таланты, передаются с генами?…
Ксюнечка, сосредоточенно сдвинув свои умные бровки, проходит очередной лабиринт…
А я смотрю на наше Дерево, перечёркнутое оконной решёткой, и почему-то сегодня никак не могу сосредоточиться на Дереве, а вижу РЕШЁТКУ.
Я думаю о своём отце, который почти мальчишкой оказался за колючей проволокой. Его обвинили во вредительстве (это ещё в сталинские времена). Думаю о своём дедушке Андрее, мамином отце, которому (всё в те же времена) неизвестно за какие грехи пришлось рыть “знаменитый” канал, где-то под Дмитровым… Думаю о своей бабушке Доре, подпольщице, которая побывала и в гестапо, и за проволокой Маутхаузена и Освенцима… А стукач был – свой, землячок! Потом, после войны, бабушку вызывали на очную ставку с этим самым землячком… Думаю об отце Гавра, который чудом вернулся живым из мордовских лагерей… Я думаю о том, что дети и внуки тех, кто стучал, доносил, допрашивал, пытал и стоял на вышках с автоматом, – это всё мои ровесники и ровесники моих детей. И в жизни мы ещё не раз можем сойтись лицом к лицу…
Я запретила Серёжке заходить к нам.
* * *
Но больше всего жальче Андрюшу Набокова. Это совсем несчастный ребёнок. В больнице уже третий месяц. Хотя он детдомовский, но мать, как выяснилось из истории болезни, у него есть! Но ни разу не пришла и даже не позвонила…
В палате у Андрюши страшное зловоние. Он ходит мимо горшка, а то и вовсе в постель, а бельё тут меняют не часто… Дети над ним смеются, сделали из него аттракцион. Говорить с ними, объяснять что-то – бесполезно. Пока говорю, – кивают головами, соглашаются: да, он больной мальчик, да, обижать его грешно, – но я ухожу в свой бокс – и они радостно продолжают потешаться над ним дальше. А он наивный ребёнок, совершенно простодушный, он не понимает, что над ним издеваются: дети просят его сделать глупость – и он делает. То он по их “заказу” раздевается догола, то надевает штаны на голову. И тут же, из палаты в палату, летит сообщение: что Набоков ещё натворил…
Дети – жестокий народ, когда этот народ мается от скуки. Жалеть они не умеют. По крайней мере, жалость и жестокость идут тут рука об руку, нераздельно. Совсем недавно все вместе молились об Анечке… Но Адрюшу Набокова они не считают за человека.
Ознакомительная версия.