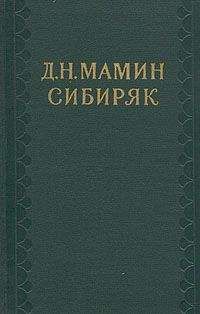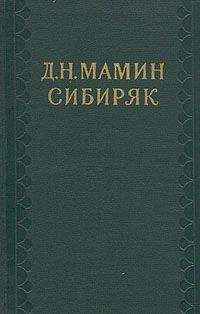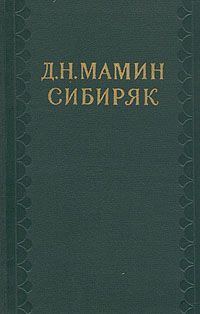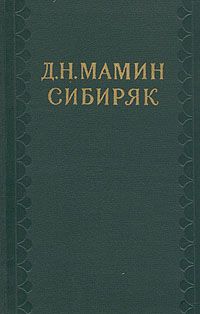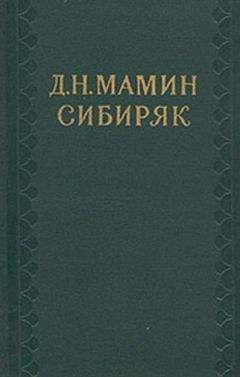В волости с Мороком происходила всегда одна и та же история: волостные старички для формы устраивали короткий суд и немедленно пороли виноватого. Так было и теперь. Никешка не оправдывался, не сопротивлялся, не роптал, а принимал все как должное. Когда экзекуция кончилась, он привел в порядок свой костюм и сам отправился в холодную, где обыкновенно отдыхал до следующего дня, как было заведено давно. В результате все оставались довольны.
— Черти, право, черти! — ворчал Никешка, не обращаясь ни к кому в отдельности. — Скоро коней выгонять, так я вам покажу… Эка важность: сапоги! Тоже нашли…
В Чумляцком заводе Никешка играл оригинальную роль единственного вора, и при всякой пропаже отправлялись к нему, потому что больше некому украсть. Если приходили вовремя и находили поличное, как в данном случае, он покорялся беспрекословно. Если удобный момент был пропущен и краденое при посредстве кабатчика Пимки уплывало в неведомые бездны, Никешка запирался, начинал ругаться и буянить; но его все-таки пороли и держали на высидке больше обыкновенного. Единственный вор на весь завод, — значит, чего с ним толковать. Случались серьезные дела, как увод лошади, тогда Никешку предварительно колотили, долго и больно колотили, а потом пороли и сажали «в карц». Эти шалости обыкновенно совпадали с зимним глухим временем, когда у Никешки не оставалось никаких ресурсов для существования, кроме сивой кобылы, которую он обыкновенно менял на цыганский манер с придачей. Но к весне, когда нужно было выгонять лошадей в пасево, кобыла непременно являлась в руках Никешки, и он гарцевал на ней с пастушьей ухваткой. Эта кобыла заслуживает внимания не меньше хозяина. Она не давалась в запряжку, а если ее все-таки запрягали, падала в оглоблях; на себя она тоже никого не пускала, — била задними ногами, кусалась и в заключение опять падала. Справлялся с ней один Никешка. И теперь, засаженный в холодную, он думал о своей кобыле, которая осталась без всякого призора. Положим, она никуда не девается, но все-таки было жаль.
Итак, Никешка лежит в холодной и сосредоточенно молчит. Сначала он думал о своей кобыле, а потом припомнил солдатку Матрену, и точно что его кольнуло в самое сердце. Зачем Даренка пряталась от него давеча?.. На погибель вела ее солдатка: уж какая девка, ежели в поденщину попала — вся чужая. Плохо, видно, Мирону приходится, ежели он последней дочери не пожалел.
«Сплоховал старик, — думает Никешка, закрывая глаза, — Надо бы повременить: может, какой бы жених выискался на Даренку».
К фабрике у Никешки было какое-то органическое отвращение. В крепостное время, когда насильно гнали народ на огненную работу, он один отбился от фабрик, несмотря на то, что его и пороли, и морили высидкой, и сдавали в солдаты, — ничего не помогало. Заводское начальство махнуло на него рукой, как на отпетую голову. Каково же было удивление этого начальства, когда после воли первым на фабрику явился Никешка! Он точно переродился и проработал лет пять как следует. Появился у Никешки свой домишко, хозяйство, и в заключение он женился. Все шло хорошо. Но когда на фабрике поставили первую паровую машину, Никешка точно сдурел: явился к управителю и заявил, что больше работать не будет.
— Почему? — удивился управитель.
— А так… Что же, собака я, что ли, что буду вам по свистку на работу выходить?
— Да ты с ума сошел…
— Все равно толку не будет…
— От свистка?
— От его от самого…
Как сказал Никешка, так и сделал: не хочу, и все тут. Паровой свисток действительно нагонял на него какую-то тоску и озлобление. Каждое утро Никешка ждал того момента, когда загудит его враг.
— О, чтобы тебе подавиться! — ругался он, посиживая у окна.
Даже в пасеве, верст за пятнадцать от завода, Никешка не мог избавиться от проклятой немецкой выдумки: свисток все-таки гудел, далеко-далеко гудел, точно под землей.
Нажитое добро было прожито с поразительной быстротой, и Никешка окончательно попал на свою линию единственного вора. Жена Маланья ушла жить к кабатчику Пимке, а Никешка остался со своей сивой кобылой и все сидел у окошечка. В его душе сформировалось непоколебимое убеждение, что от заводской работы никакого толка не будет, — а лошадей пасти можно было только летом. Подтверждением его первой мысли была та же история семьи Мирона: вот человек работал, выбивался из сил, а под старость все-таки пошел по миру. Другое дело Егранька Ковшов: он такой же заворуй, как и Никешка, только ворует с поклоном. Таким образом, все зло заводского существования для Никешки сосредоточилось в паровом свистке, и он не хотел ничего знать. И Даренку он пожалел потому же: под свисток пошла — пиши пропало. Уж если мужику пропасть, то девке — вдвое.
IV
Наступило лето, а следовательно, Морок гарцевал на своей снеой кобыле, помахивая длинным пастушьим хлыстом. Все зимние грехи точно растаяли вместе со снегом, и Никешка не спал ночей, оберегая общественное добро. Конское пасево было отведено «с незапамятных времен» в двадцати верстах от Чумляцкого завода, на так называемой Елани, старом, заброшенном курене, примыкавшем к реке Чусовой. Это было глухое медвежье место, по которому целое лето бродил заводский табун, лошадей в тысячу. Летом конных работ на заводе не было, и лошади отдыхали в пасеве. Десять человек пастухов с Мороком во главе отвечали за каждую голову, если не представят меченных тавром копыт. Пастушье дело — самое проклятое, особенно, когда лошадь отобьется от своего табуна и уйдет в горы: извольте ее искать на расстоянии сотни квадратных верст. Места кругом были дикие, и только кой-где засели глухие лесные деревушки. Все лето пастухи перебивались в балаганах, а Никешка почти не слезал со своей кобылы, потому что на его обязанности было отыскивать отбившихся от табуна лошадей. Благодаря знанию местности и многолетним связям с конокрадами всей округи он выполнял свою роль из года в год, как мы уже говорили, блистательно.
Нынешнее лето проходило обычным порядком, хотя сам Морок, видимо, скучал и заметно тяготился своей собачьей службой.
— Черт на нем едет, что ли? — удивлялись пастухи. — От хлеба отбился человек.
— Стар стал: кости болят… — уклончиво объяснил Морок. — Тоже бьют-быот человека, а к ненастью поясницу ломит во как.
Дело было не в пояснице. Морок обманывал самого себя. Он все думал о Даренке. Втемяшилась ему в башку эта девка и не выходит. Стороной он уже слышал, что на фабрик? Даренка «защеголяла»: явились козловые ботинки, кумачный платок, ситцевые «подзоры» на юбках, стеклянные бусы на шее, а автором этих неотразимых для каждой поденщицы соблазнов называли заводского машиниста Мухачка. Вся фабрика галдела на эту тему недели две и не давала проходу Даренке, хотя дело это было самое обыкновенное: вся бабья поденщина с солдаткой Матреной во главе — на одну руку. Может быть, из всех заводских один Морок пожалел пропавшую ни за грош девку.
В своих разъездах по заводской даче Морок не один раз завертывал на покос к Мирону. От Елани это было рукой подать. Тут же были покосы синелыцика Ильи, чеботаря Калины, — тоже единственные люди в Чумляцком заводе, как был единственный вор — Никешка. Лучший покос, конечно, принадлежал здесь Еграньке Ковшову, и Морок делал нарочно десять верст лишних, чтобы поругаться с ним.
Страда на заводах — самое лучшее время: весь народ в поле, и работа кипит. По ночам весело горели огни у покосных избушек, и по всем покосам катились веселые песни. Старики. конечно, рады были месту, а веселилась неугомонная молодежь: день-деньской с косой, а вечером — гулянка. Когда-то такое же веселье было и на покосе Мирона, но теперь не то. Настоящей рабочей силой являлся один старик Мирон, а остальные были все бабы: старуха Арина, солдатка Матрена, Прасковья и Дарья. Отделенные сыновья работали в свою голову, а Мирон управлялся один. Бабы, конечно, работали, но известно, какая бабья работа: то, да не то. А тут еще солдатка Матрена куролесила: то одного приведет, то другого, да еще и сама пьяная напьется. Конечно, дивить на солдатку было нечего: непокрытая голова, и взять не с кого. Хуже было то, что и другие дочери своими дружками обзавелись. Один Мухачок чего стоил: приедет верхом и начнет куражиться, а худая-то слава далеко бежит. Старик Мирон все это видел, но молчал. Да и что он мог поделать, когда сам посылал дочерей на фабрику: нужно пить, есть, одеться, а сам он какой работник? Покосит до обеда, а после обеда лежит в избушке, — натруженные кости ноют, спина болиг, каждый сустав ломит. Девки хоть и гулящие, а проворные, и работа идет мало-мало. Вот только старуха Арина донимает своими причитаниями: у других и то, и другое, и десятое. Старый Мирон только вздохнет, — конечно, старухе обидно.
Раз, когда после обеда Мирон лежал в балагане и раздумывал свои невеселые старые думы, кто-то подъехал верхом.