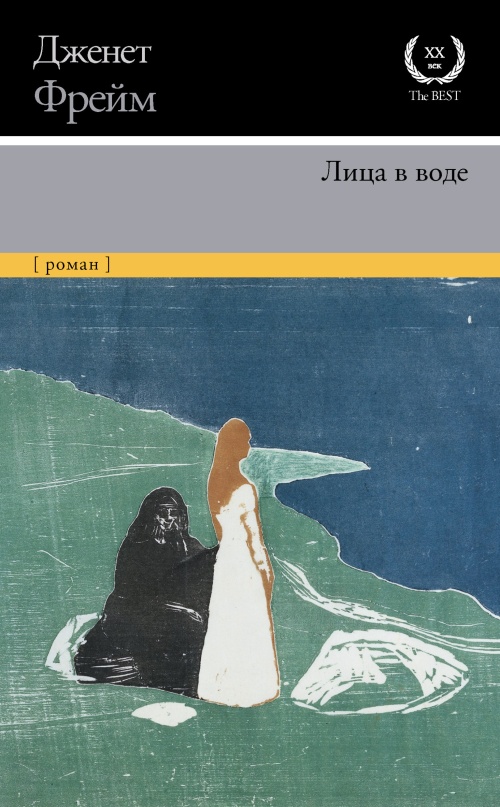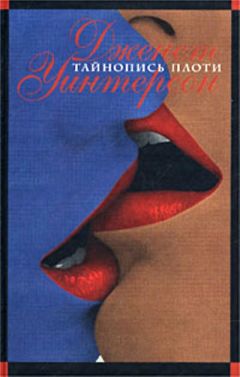уже сняли потерявшие свою яркость платья в цветочек, быстро приводили в порядок при помощи скребка, влажной тряпки и принадлежавшей отделению расчески. Их обували в казенные туфли, черные, со шнурками, под прибитым пылью слоем ваксы. Начинались бойкая топотня, попытки кататься по полу, как на коньках, и брыкаться. Из наволочки на пол высыпали подвязки; раздавали их вместе с настойчивыми уговорами не стреляться ими, а надеть поверх чулок, чтобы те не сползали.
На некоторых пациентках были серые больничные носки; другие же, чьи родственники помнили, что душевнобольные тоже могут носить одежду, привычную для внешнего мира, по крайней мере, надевать ее по особым случаям, какими были дни посещений, щеголяли в собственных, самых настоящих, капроновых чулках. С невероятной заботой вынимали они их из гладких целлофановых конвертов. И то, что через час или два чулки будут точно испорчены, не имело никакого значения. Пока нескольких пациенток все еще приводили в порядок, большинство из тех, кого не пустили за ограду, вели себя привычным образом, и трудно было заподозрить, что они знали или беспокоились о том, что в течение ближайшего часа кто-то сможет пообщаться с внешним миром и вернется взволнованным, раскрасневшимся, настроенным на насилие, сжимая в горсти скоропортящиеся трофеи, добытые во время несуразного сафари по давно покинутому лабиринту человеческого общения. Некоторые лишь раздражались из-за того, что был заблокирован их привычный маршрут по комнате, впадали в панику, как муравьи, потерявшие феромонный след своей тропы; другие не обращали внимания ни на что.
Или же так казалось. Если только кто-то из женщин не осознавал, что упорядоченные проявления ее безумия брали начало в том моменте, когда у нее отняли бесхитростное чувство хотения.
Тетушка Роуз оставалась моим верным гостем. Она создавала впечатление чего-то неопределенно-плюшевого, как гостиная с пуфиками, и мне было трудно поверить, что ее племянницей была я; казалось, что она была тетушкой для других детей гораздо в большей степени, чем для меня (да, я тоже воспринимала себя ребенком). Как же я была рада ее видеть. Мы сидели в столовой соседнего отделения, под командованием старшей медсестры Вулф, занимавшей место за особым столом в передней части комнаты, озиравшей всех присутствовавших и временами властно произносившей: «Тишина, пожалуйста». Посетители пугались – их следовало пожалеть, поскольку их эмоции проявлялись узнаваемо, их лица свободно показывали страх, одиночество, раздражение, смирение, сочувствие, и они еще не научились надевать маску ничегонечувствования. Переводя взгляд с посетителя на пациента, трудно было сразу сказать, кто есть кто, пока не замечал замороженное выражение лица и манеру держаться, как будто все существо человека превратили в некое подобие желе, отлитое по форме Батистового Дома.
Тетушка Роуз робко ждала на своем месте, как можно дальше от старшей медсестры. Как ни старалась я соблюдать правила приличия, как только вошла и получала от нее мокрый поцелуй с ароматом клубники, уже не могла отвести глаз от ее сумки, гадая, какие гостинцы она принесла. Она все понимала и тут же, как из рождественского чулка, доставала запас, приготовленный для нашей совместной трапезы; она ела не торопясь, изящно откусывая маленькие кусочки, в то время как я хищно набрасывалась на съестное, тайно стыдясь своей жадности.
Как-то раз она принесла в подарок сумку, которую сшила для меня. «Чтобы у тебя было где хранить свои вещи», – сказала она. Котомка была из розового кретона, на шнурке, с розами по верхней каемке и круглым картонным донышком; когда я засовывала внутрь руку, рука напоминала мне пчелу, забравшуюся в цветок. Чувство гордости переполняло меня. Но я понимала, что сумку мне придется охранять. У меня не хватило смелости сказать тетушке Роуз, что, возможно, котомку у меня отберут, прикрепят на нее бирку и будут хранить в чулане для чемоданов, чтобы вернуть лишь тогда, когда меня выпишут из больницы, или, как в случае пациентов Батистового Дома, обреченных остаться тут «навсегда», отдадут моей сестре или самой тетушке, когда я умру, а родных оповестят, что требуется, чтобы кто-нибудь забрал мои «вещи». И все же во мне теплилась надежда, что мне удастся оставить котомку себе: я знала, что у пары пациенток, живших наверху, были свои маленькие сумочки, которые они не выпускали из рук; но они не шли ни в какое сравнение с моей, не было у них ни шнурка, ни розочек.
Моя сумка была подобна пропускным документам для въезда в страну потерянных людей. Я больше не была кем-то, кто со стороны наблюдал за обитателями отделения номер четыреста пятьдесят один и их пугающей заботой о своем скудном имуществе; я была полноправным гражданином на этой территории, и надежды на то, что когда-нибудь я смогу пересечь эту границу в обратном направлении, почти не было; я принадлежала миру сумасшедших, и нечто гораздо большее, нежели запертые двери и зарешеченные окна, отделяло меня от людей, которые были в здравом уме.
Зато у меня была розовая котомка, куда я могла прятать свои богатства.
Дождь не прекращался неделями. Когда работники большой кухни приносили подносы, им приходилось стоять в лужах, и дождь стекал с их клеенчатых накидок. Нам было холодно, голодно и скучно, поэтому, чтобы оживить обстановку, пациентки иногда дрались; я сама тем не менее никогда не вступала в драки ни с кем, потому что моим долгом было защищать их от недоброжелательности персонала, и меня огорчало, когда в качестве оправдания за свои слова, которые бы обычный человек посчитал жестокими и обидными, медсестра говорила: «Да она же все равно не соображает. Вообще не понимает, что я говорю. Не видишь, что ли, что все эти тетки всё – считай, мертвы?»
Может показаться странным, что практически никто из медсестер никогда не проявлял сострадания; но потом вспоминаешь те случаи, когда появлялся человек, который и желал бы заботиться о своих пациентах, однако, не найдя в себе сил продолжать дальше одинокую борьбу в тяжелейших условиях нехватки персонала и двенадцатичасового рабочего дня, либо опускал руки, либо превращался в затравленного, ленивого лицемера и садиста, рассыпающегося любезностями в седьмом отделении и превращающегося в монстра в Батистовом Доме.
После дней и дней непрекращающихся дождей погода вдруг прояснилась, и нас выпустили из провонявшего помещения на улицу, разрешив погулять в маленьком дворике под промытым голубым небом: продрогшие, мы стояли или сидели на перилах полуразвалившейся веранды и смотрели на гавань с ее яхтами, темно-синими пятнами там, где была глубокая вода, жемчужными отмелями и спиралевидными узорами на илистом берегу в период отлива. Помню, как мама сочиняла идиллические песни об этом северном