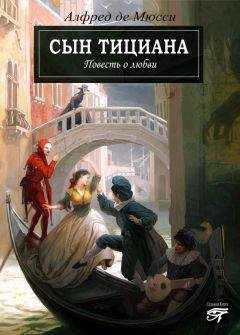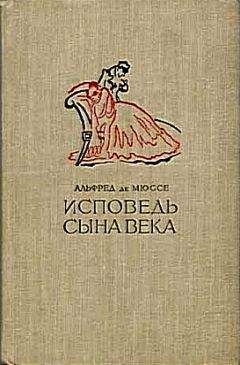На столе у г-жи Пирсон лежали свежие газеты и книги - правда, она даже не разворачивала их. Несмотря на простоту всего, что ее окружало, в ее мебели, в ее платьях чувствовалась мода, другими словами - новизна, жизнь. Она не уделяла этому особого внимания, не занималась этим, но все делалось само собой. Что касается ее вкусов, то, как я сразу заметил, вокруг нее не было ничего вычурного, все дышало молодостью и было приятно для глаза. Беседа ее свидетельствовала о солидном образовании. Она обо всем говорила непринужденно и со знанием предмета. Несмотря на ее простоту, в ней чувствовалась глубокая и богатая натура. Разносторонний и самостоятельный ум тихо парил над бесхитростным сердцем и привычками к уединенной жизни. Так чайка, кружащаяся в небесной лазури, парит с высоты облаков над кустами, где она свила свое гнездо.
Мы разговаривали о литературе, о музыке, чуть ли не о политике. Этой зимой она ездила в Париж. Время от времени она появлялась и в свете. То, что она там видела, служило ей основой, остальное дополнялось с помощью догадок.
Но самой характерной чертой г-жи Пирсон была ее веселость - веселость, которая не переходила в радость, но была неистощима. Казалось, что она родилась цветком и что эта веселость была его благоуханием.
При ее бледности и больших черных глазах это как-то особенно поражало, - тем более что некоторые ее слова, некоторые взгляды ясно говорили о том, что когда-то она страдала и что жизнь оставила на ней свой след. Всматриваясь в нее, вы почему-то чувствовали, что кроткая ясность ее чела была дарована ей не в этом мире, что она дана богом и будет в полной неприкосновенности возвращена богу, несмотря на общение с людьми. И в иные минуты г-жа Пирсон напоминала заботливую хозяйку, защищающую от порывов ветра робкое пламя своей свечи.
Пробыв в ее комнате каких-нибудь полчаса, я не смог удержаться, чтобы не высказать ей всего, что было у меня на сердце. Я думал о своем прошлом, о своих огорчениях, о своих заботах. Я расхаживал взад и вперед, нагибаясь к цветам, вдыхая их аромат, любуясь солнцем. Я попросил ее спеть, она охотно исполнила мою просьбу. Пока она пела, я стоял, облокотясь на подоконник, и смотрел, как прыгают в клетке ее птички. Мне пришло в голову изречение Монтеня: "Я не люблю и не уважаю грусть, хотя люди точно сговорились окружить ее особым почетом. Они облачают в нее мудрость, добродетель, совесть. Глупое и дурное украшение".
- Какое счастье! - невольно вскричал я. - Какой покой! Какая радость! Какое забвение!
Добрая тетушка подняла голову и взглянула на меня с удивленным видом. Г-жа Пирсон перестала петь. Я густо покраснел, сознавая всю нелепость своего поведения, и сел, не сказав более ни слова.
Мы вышли в сад. Белый козленок, которого я видел накануне, лежал там на траве. Заметив свою хозяйку, он тотчас подбежал к ней и пошел за нами уже как старый знакомый.
Когда мы собирались повернуть в аллею, у калитки вдруг появился высокий бледный молодой человек, закутанный в какое-то подобие черной сутаны. Он вошел не позвонив и поздоровался с г-жой Пирсон. Я заметил, что его физиономия, которая и без того показалась мне мало приятной, несколько омрачилась, когда он меня увидел. Это был священник, и я уже встречал его в деревне. Его звали Меркансон. Он недавно окончил курс в семинарии св.Сульпиция и состоял в родстве с местным кюре.
Он был одновременно тучен и бледен, что никогда не нравилось мне и что действительно производит неприятное впечатление: болезненное здоровье, ну, не бессмыслица ли это? К тому же у него была медленная и отрывистая манера говорить, изобличавшая педанта. Даже его походка, в которой не было ничего молодого, ничего решительного, отталкивала меня. Что же касается его взгляда, то взгляда у него, можно сказать, не было вовсе. Не знаю, что думать о человеке, глаза которого ничего не выражают. Вот признаки, по которым я составил себе мнение о Меркансоне и которые, к несчастью, не обманули меня.
Он уселся на скамейку и начал говорить о Париже, называя его современным Вавилоном. Он только что прибыл оттуда и знал решительно всех. Он бывал у г-жи де Б., это сущий ангел. Он читал проповеди в ее салоне, и их слушали, преклонив колена. (Хуже всего было то, что он говорил правду.) Одного из его друзей, которого он сам ввел туда, недавно выгнали из коллежа за то, что он обольстил одну девицу, и это очень дурно, очень печально. Он наговорил тысячу любезностей г-же Пирсон, восторгаясь ее благотворительной деятельностью. До него дошли слухи о ее благодеяниях, о том, как она заботится о больных, вплоть до того, что сама ухаживает за ними. Это так прекрасно, так благородно. Он не преминет рассказать об этом в семинарии св.Сульпиция. Уж не собирался ли он сообщить об этом и самому господу богу?
Утомленный этой длинной речью и желая удержаться от пренебрежительного жеста, я улегся на траву и стал играть с козленком. Меркансон устремил на меня свой безжизненный, тусклый взгляд.
- У прославленного Верньо, - сказал он, - тоже была эта странная привычка - садиться на землю и играть с животными.
- Это весьма невинная странность, господин аббат, - возразил я. - Если бы все наши странности были столь же невинны, мир мог бы существовать сам по себе, без всякого участия такого множества людей, которым не терпится вмешаться в его дела.
Мой ответ не понравился Меркансону. Он нахмурился и заговорил о другом. Он явился сюда с поручением: его родственник, местный кюре, рассказал ему об одном бедняке, который не мог заработать себе на хлеб; живет он там-то и там-то. Он сам, Меркансон, уже был у него и принял в нем участие. Он надеется, что г-жа Пирсон...
Пока он говорил, я все время смотрел на г-жу Пирсон и с нетерпением ждал, что она что-нибудь скажет, как будто звук ее голоса должен был утолить боль, которую мне причинял голос священника, но она только низко поклонилась ему, и он удалился.
После его ухода веселость снова вернулась к нам, и мы решили пойти в оранжерею, находившуюся в глубине сада.
Госпожа Пирсон обращалась со своими цветами точно так же, как со своими птицами и со своими соседями-фермерами. Для того чтобы она, этот добрый ангел, могла быть веселой и счастливой, все окружавшее ее должно было наслаждаться жизнью, должно было получать свою каплю воды и свой луч солнца. Поэтому ее оранжерея содержалась в образцовом порядке и была прелестна.
- Господин де Т., - сказала мне г-жа Пирсон, когда мы осмотрели оранжерею, - вот и весь мой маленький мирок. Теперь вы видели все, что у меня есть, и на этом кончаются мои владения.
- Сударыня, - ответил я, - если имя моего отца, благодаря которому я имел честь войти в ваш дом, позволит мне снова прийти сюда, я поверю, что счастье еще не совсем забыло меня.
Она протянула мне руку, и я почтительно пожал ее, не осмелившись поднести к губам.
Вечером, придя домой, я запер дверь и лег в постель. Перед моими глазами стоял маленький белый домик. Я представлял себе, как завтра вечером я выйду из дому, миную деревню, липовую аллею и постучусь у ее калитки.
- О мое бедное сердце! - воскликнул я. - Хвала небу! Ты еще молодо, ты можешь жить, ты можешь любить!
6
Как-то вечером я был у г-жи Пирсон. Вот уже более трех месяцев, как я виделся с ней почти ежедневно, и могу сказать об этом времени лишь одно я видел ее. "Быть с людьми, которых любишь, - говорит Лабрюйер, - это все, что нам нужно. Мечтать, говорить с ними, молчать возле них, думать о них, думать о вещах более безразличных, но в их присутствии, - не все ли равно, что делать, лишь бы быть с ними".
Я любил. В течение трех месяцев мы совершали вместе длинные прогулки. Я был посвящен во все тайны ее скромного милосердия. Мы пробирались вместе по темным лесным тропинкам: она - на маленькой лошадке, я - пешком, с тросточкой в руке. Так, то оживленно беседуя, то погружаясь в мечты, мы подходили к дверям хижин и стучались в них. На опушке леса стояла скамейка, где я поджидал ее после обеда, и мы встречались там как бы случайно, но постоянно. Утром - музыка, чтение; вечером - партия в карты с тетушкой у камина, где, бывало, сиживал мой отец; и всегда и везде она была здесь, рядом; ее улыбка, ее присутствие заполняли мое сердце. Какими же путями, о провидение, ты привело меня к несчастью? Волю какого неумолимого рока мне предназначено было исполнить? Как! Эту жизнь, полную свободы, эту близость, полную очарования, этот покой, эту зарождающуюся надежду мне суждено было... О боже, на что жалуются люди? Что может быть сладостнее любви?
Жить, да, ощущать сильно, глубоко, что ты существуешь, что ты человек, созданный богом, - вот первое и главное благодеяние любви. Любовь неизъяснимое таинство, в этом нет сомнения. Несмотря на тяжелые цепи, несмотря на пошлость, я бы сказал даже, несмотря на всю мерзость, которой люди окружают ее, несмотря на целую гору извращающих и искажающих ее предрассудков, под которой она погребена, несмотря на всю грязь, которой ее обливают, - любовь, стойкая и роковая любовь все же является божественным законом, столь же могущественным и столь же непостижимым, как тот закон, который заставляет солнце сиять в небе. Скажите мне, что такое эти узы, которые крепче, прочнее железа и которые нельзя ни видеть, ни осязать? Чем объяснить, что вы встречаете женщину, смотрите на нее, говорите ей два слова и уже никогда больше не можете ее забыть? Почему именно ее, а не другую? Сошлитесь на рассудок, привычку, чувственность, на ум, на сердце и объясните, если сможете. Вы увидите лишь два тела, одно здесь, другое там, и между ними... Что же? Воздух, пространство, бесконечность? О глупцы, считающие себя людьми и осмеливающиеся рассуждать о любви! Разве вы видели ее, что можете говорить о ней? Нет, вы только ощущали ее. Вы обменялись взглядом с неизвестным вам существом, проходившим мимо, и вдруг от вас отлетело нечто, не имеющее названия. Вы пустили корни в землю, как зерно, которое пряталось в траве и вдруг почувствовало, что жизнь проснулась в нем и скоро оно созреет для жатвы.