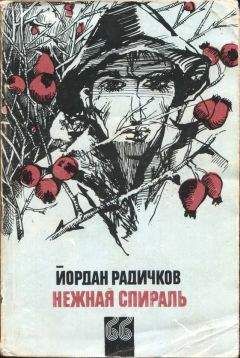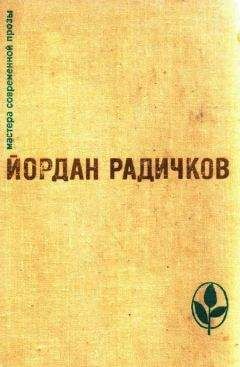Много лет прошло с тех пор, но чем больше времени проходит, тем настойчивее напоминает о себе эта история, стучит в моем сознании, как дятел, не дает мне покоя. И сколько раз возвращаюсь я к ней, столько раз вижу все одну и ту же картину: гроза уходит, раскаты ее все глуше и глуше, со стрех звонко капают капли, горы едва видны, в зеленом их подоле белеют ноздреватые сугробы, женщины стоят на пороге дома, не отрывая глаз от мертвых шелковичных червей на настилах. Не выдержали они грома, и когда небо обрушилось сверху, точно взорванная каменоломня, тихая и нежная козявка погибла; мужчины тоже стоят молчаливо и неподвижно, только дурачок продолжает левой рукой обрывать листья, а позади всех стою я, босой, остриженный ножницами, и смотрю на сумеречный дом. И на что я, собственно, смотрю? На мертвого шелковичного червя смотрю или на что-то другое в этой дальней дали? И мне часто приходит в голову, не разглядываю ли я вместо воспоминаний свои тихие и кроткие сюжеты, погруженные в полумрак и тишину?
В Софийской котловине есть один глухой район, где только и увидишь, что бродячих собак, болота, тополя с сотнями ворон на ветках, непроходимые заросли камыша и дуплистые вербы, от старости сплошь покрывшиеся наростами грибов. В давние времена здесь был монастырь, пастухи рассказывали мне, что он носил имя святого Тудора. Монастырь, однако же, провалился сквозь землю, и на его месте стоит лишь сколоченная из досок маленькая часовня с деревянным крестом, показывая, где была когда-то христианская обитель. После исчезновения монастыря округа одичала, земля заболотилась, заросла густым камышом. Среди камыша попадаются лужки, траву там, по-моему, не косят, а овец пасут. Заросли камыша пересечены кое-где колеями дорог, которые напоминают о том, что одичало здесь еще не все. Колеи постепенно зарастают, теряются в камышах, так что идешь, скажем, по такой колее и вдруг упираешься в стену камыша высотой в два человеческих роста, над стеной подымаются высокие тополя, посаженные здесь, чтоб отсасывать воду из заболоченной почвы, с тополей неохотно снимаются вороны, сбиваются в черные тучи и летят над головой, роняя свое однообразное и нескончаемое: „Карр!.. Карр!“ Я частенько сиживал там на поваленной вербе — курю, молчу и слушаю, как издали летят вороны, несут на сотнях крыльев тучу, а потом раздирают ее на части и развешивают на высокие тополя. При этом птицы всегда спорят и ссорятся из-за каждой ветки, хотя веток для них вполне достаточно.
Глухое место это находится на северо-востоке от Долни-Богрова. Я временами приезжал туда, рассчитывая поохотиться на диких уток и на бекасов, но удача ни разу не улыбнулась мне. Не помню даже, стрелял ли я. Бывал я и один, и с приятелями, и всегда одно и то же — ни дикой утки, ни бекаса. И хотя ничего не попадалось, я снова и снова пускался бродить по этим глухим местам, полагая, что должен же я в такой глухомани в конце концов наткнуться либо на утку, либо на бекаса. Но, к сожалению, неизменно заставал одну и ту же картину — камыши, бродячую собаку, хромую или одноглазую, и стаи ворон на тополях с их однообразным: „Карр!.. Карр!..“ Эти вороны, быть может, были свидетелями того, как ушел под землю монастырь святого Тудора, а, может, сама святая обитель их и разводила, кто знает!.. Года три или четыре назад — не помню точно, помню лишь, что стояла теплая осень и было много грибов, — мы с сыном отправились на охоту. Только мы перешли мост у села Долни-Богров, как увидели множество людей, рассыпавшихся по выгонам по обе стороны Ботевградского шоссе. Они брели по одиночке, медленно, и каждый смотрел то себе под ноги, то налево, то направо, причем смотрел очень внимательно, словно искал что-то потерянное — деньги или какой-то ценный предмет. Брели они и вдоль дамб, ограждающих каналы, так что нечего было и надеяться, что в каналах осталась хоть одна дикая утка. Мы с сыном остановились, чтобы решить, куда же нам теперь податься. Решали, решали, и свернули налево, к исчезнувшему монастырю — авось на этот раз глухомань все же подкинет нам дикую утку или бекаса.
Мы собрали и зарядили ружья, а я все поглядывал на бредущих по выгону людей. Некоторые из них наклонялись, что-то срывали, сорванное клали в пластиковый пакет, выпрямлялись и брели дальше.
Я понял, что это грибники.
Тот, кто, не будучи сам грибником, наблюдает, как эти люди собирают грибы, непременно их пожалеет.
Очень это жалкое зрелище — идет грибник и смотрит себе под ноги, рыщет, мотается туда-сюда, прочесывает прочесанный скотиной выгон — а до скотины он был уже прочесан другими грибниками. Но хотя другие грибники прошли уже по выгону, новые этого не знают, думают, что они первые, и спешат обшарить выгон. Я не раз наблюдал — и не только той осенью, но и раньше, — до чего печально это выглядит: идет, к примеру, по дамбе грибник, здесь сорвет гриб, там сорвет гриб и исчезнет за купой верб. Сразу же за ним появляется следующий грибник, идет по пятам первого, ищет, зыркает вокруг глазами, однако грибов не обнаруживает. Проходит и второй грибник, исчезает за купой верб, а в это время уже появляется третий, с тобой не здоровается, в разговор не вступает, а только зыркает глазами по дамбе и, если наклоняется, то не за грибом, а лишь за ножкой гриба, выброшенной прошедшим раньше грибником… Так и тянутся грибники, грибник за грибником, протаптывают едва заметные тропки на овечьих выгонах, рыщут, мотаются туда-сюда, и у каждого в руке яркий пластиковый пакет. Вот и спрашиваешь себя — отчего это человек бредет так нелепо, уставившись себе под ноги, вместо того, чтобы устремить взгляд вперед и увидеть, как синеют далекие, но манящие горы? Или он боится этих манящих синих гор, оттого и не смотрит на них, а сосредоточился на этом дурацком грибе — шампиньоне и черт его знает, как он там зовется, и мотается туда-сюда, и ищет, будто сокровище потерял! Хорошо еще, если гриб, который он найдет, окажется съедобный! А если ядовитый?.. Я с детства помню, как все цепенели при упоминании таких слов, как ядовитая змея или ядовитый гриб. В своей небогатой событиями жизни я ни разу не видел человека, ужаленного змеей, но человека, отравившегося грибами, помню. Воспоминание это тоже относится к детским годам, у нас в деревне был один мельник, человек пришлый, вот он и отравился поганками. У мельницы столпился народ, в основном мужики, курят, тихо разговаривают, немного позади — женщины, среди них и мы стоим, ребятня, смотрим на угрюмые лица мужиков, разрезанные глубокими морщинами, на чей-то резкий профиль, небритую щеку, табачный дым. За мужиками зияет открытая дверь мельницы. В эту открытую дверь нырнули приехавшие из города незнакомые люди, и среди них человек в белом халате. Мельничные коньки молчат, глухо гудит отведенная от желобов вода, из уст в уста передаются шепотом незнакомые, страшные и таинственные слова, они тоже отдаются в ушах глухим гулом, точно отведенная от желобов вода, и слова эти: аутопсия тела. Для того и явились из города незнакомые люди, и среди них человек в белом халате — они приехали сделать аутопсию тела. Один мужик из толпы рассказал, как он встретил мельника с грибами и не то чтоб засомневался, а прямо-таки сразу увидел, что грибы ядовитые, и сказал мельнику, мол, это не опята, которые растут на пнях, а поганки, но мельник засмеялся и ответил, что это самые настоящие опята и есть. И что получилось? Получилось, что как засмеялся мельник, так, смеясь, на тот свет и отправился, — заключил мужик. Самого мельника я уже не помню, но в ушах у меня иногда глухим гулом, точно вода на мельнице, отдается: аутопсия тела.
Мы шли к одичавшим местам, где провалилась святая обитель, и я думал — не то же ли происходит и в жизни? И что, в сущности, я ищу? Ни съедобных грибов не находил я в моей небогатой событиями жизни, ни ядовитых! Разве что наткнешься на выброшенную кем-то другим ножку. По ножке этой и поймешь, что грибники прошли задолго до тебя и если что можно было найти, то они все уже и нашли. Значит, нечего и утыкаться носом в землю, а надо смотреть далеко вперед, где синеют дали и манящие горы привстают тебе навстречу. Когда-нибудь мы, может быть, туда и пойдем, но теперь, когда за плечом у нас ружья, мы свернем вдоль дамбы и углубимся в камышовые заросли на месте утонувшей и затянутой болотой святой обители.
Почему господь допустил, чтобы целая обитель провалилась сквозь землю, а место, где она стояла, превратилось в болото и одичало? Но у меня не было времени размышлять над тем, как и при каких обстоятельствах одичало это место, потому что мы увидели дым, такой густой и тяжелый, что, опустись он на камыши, он подмял бы их под себя. Вместе с тяжелым дымом до нас долетела незнакомая речь и яростный собачий лай. Собаки выскочили из камышей прямо на нас, целой сворой, голодной и злой. Ни одной породистой собаки среди них не было. Сброд этот напоминал своры бродячих собак, с той разницей, что бродячие собаки, завидев человека, мгновенно исчезают в камышах, эти же, наоборот, бежали прямо на нас. Все они до одной были тощие и костлявые. Мы выстрелили в воздух, собаки тут же повернули и кинулись обратно в камыши с таким визгом, словно мы в каждую из них всадили по пуле. Послышались мужские голоса, каждый из мужчин выкликал какое-нибудь собачье имя, собаки постепенно смолкли, а мы вышли к площадке, где, похоже, было развернуто производство кирпича. На выровненном гумне лежал еще необожженный кирпич, иные были поставлены на ребро, чтобы скорее сохли, другие елочкой сложены в штабеля. Когда кирпич складывают таким образом, он хорошо проветривается и быстро сохнет. За штабелями дымились два сооружения в виде усеченных египетских пирамид — там кирпич обжигался. Людей было немного. Две женщины переворачивали сырец, несколько мужчин работали в глубокой яме, их мотыги сверкали на солнце… По другую сторону от нас стояли камышовые шалаши, между шалашами виднелись мужчины и женщины, одни плели цыновки из камыша, другие скатывали их трубкой и куда-то уносили. Точнее, уносили за шалаши, а нагружали ли их там на повозки или просто складывали, видно не было.