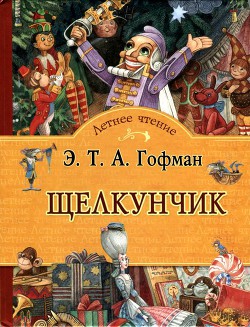возбуждение. И только теперь, когда ясные лица его двойника и Дика отвернулись от него, он вспомнил про духа и почувствовал, что дух смотрит прямо на него и что на голове его горит яркий свет.
– Как мало надо для того, чтобы заслужить благодарность этих глупцов, – сказал дух.
– Мало! – повторил Скрудж.
Дух знаком заставил Скруджа прислушаться к разговору двух учеников, которые от всей души расточали похвалы и благодарности Феззивигу. И, когда Скрудж послушал, дух сказал:
– Ну не так ли? Истратил он несколько фунтов, ну, быть может, три, четыре фунта… Неужели этого достаточно, чтобы заслужить такие похвалы?
– Не в этом дело, – сказал Скрудж, задетый за живое его словами, и невольно говоря своим прежним юношеским тоном. – Не в этом дело, дух. В его власти сделать нас счастливыми или несчастными, нашу службу – радостным или несчастным бременем, наслаждением или тяжелым трудом. Допустим, что его власть заключается в каком-либо слове или взгляде – вещах столь ничтожных, незначительных и неуловимых, – но так что же? Счастье, которое он дает, так велико, что равняется стоимости целого состояния.
Он почувствовал взгляд духа и остановился.
– Что такое? – спросил дух.
– Ничего особенного, – сказал Скрудж.
– Как будто что-то случилось с вами, – настаивал дух.
– Нет, – сказал Скрудж. – Нет, мне бы хотелось сказать теперь два-три слова моему писцу. Вот и все.
Когда он говорил это, его двойник загасил лампы, и Скрудж и дух опять очутились под открытым небом.
– У меня остается мало времени, – заметил дух. – Скорее!
Слова эти не относились ни к Скруджу, ни к кому-либо другому, кого мог видеть дух, но действие их тотчас же сказалось – Скрудж снова увидел своего двойника. Теперь он был старше, в самом расцвете лет. Черты его лица не были еще так жестки и грубы, как в последние годы, но лицо уже носило признаки забот и скупости. Глаза его бегали беспокойно и жадно, что говорило о глубоко вкоренившейся страсти, которая пойдет далеко в своем развитии.
Он был не один, он сидел рядом с красивой молодой девушкой в трауре. На глазах ее стояли слезы, блестевшие в сиянии, исходившем от духа минувшего Рождества.
– Пустяки, – сказала она тихо и нежно. – Пустяки – для вас-то. Другой кумир вытеснил меня из вашего сердца. И если в будущем он даст вам утешение и радость, что постаралась бы сделать и я, мне нет причин роптать.
– Какой же это кумир? – спросил Скрудж.
– Деньги.
– В ваших словах беспристрастный приговор света! Такова людская правда! – сказал он. – Ничто не порицается так сурово, как бедность, и вместе с тем ничто так беспощадно не осуждается, как стремление к наживе.
– Вы уж слишком боитесь света, – ответила она кротко. – Все ваши другие надежды потонули в желании избежать низких упреков этого света. Я видела, как все ваши благородные стремления отпадали одно за другим, пока страсть к наживе не поглотила вас окончательно. Разве это не правда?
– Что же из того? – возразил он. – Что же из того, что я сделался гораздо умнее? Разве я переменился по отношению к вам?
Она покачала головой.
– Переменился?
– Союз наш был заключен давно. В те дни мы оба были молоды, всем довольны и надеялись совместным трудом улучшить со временем наше материальное положение. Но вы переменились. В то время вы были другим.
– Я был тогда мальчишкой, – сказал Скрудж с нетерпением.
– Ваше собственное чувство подсказывает вам, что вы были не таким, как теперь, – ответила она. – Я же осталась такою же, как прежде. То, что сулило счастье, когда мы любили друг друга, теперь, когда мы чужды друг другу, предвещает горе. Как часто, с какою болью в сердце я думала об этом! Скажу одно: я уже все обдумала и решила освободить вас от вашего слова.
– Разве я просил этого?
– Словами? Нет. Никогда.
– Тогда чем же?
– Тем, что вы переменились, начиная с характера, ума и всего образа жизни, тем, что теперь другое стало для вас главной целью. Моя любовь уже ничто в ваших глазах, точно между нами ничего и не было, – сказала девушка, смотря на него кротко и твердо. – Ну скажите мне, разве вы стали бы теперь искать меня и стараться приобрести мою привязанность? Конечно, нет.
Казалось, что, даже помимо своей воли, Скрудж соглашался с этим. Однако, сделав над собою усилие, он сказал:
– Вы сами не убеждены в том, что говорите.
– Я была бы рада думать иначе, – сказала она, – но не могу – видит Бог. Когда я узнала правду, я поняла, как она сильна, непоколебима. Сделавшись сегодня или завтра свободным, разве вы женитесь на мне, бедной девушке, без всякого приданого? Разве могу я рассчитывать на это? Вы, все оценивавший при наших откровенных разговорах с точки зрения барыша! Допустим, вы бы женились, изменив своему главному принципу; но разве за этим поступком не последовало бы раскаяние и сожаление? Непременно. Итак, вы свободны, я освобождаю вас и делаю это охотно, из-за любви к тому Скруджу, каким вы были раньше.
Он хотел было сказать что-то, но она, отвернувшись от него, продолжала:
– Может быть, воспоминание о прошлом заставляет меня надеяться, что вы будете сожалеть об этом. Но все же спустя короткое время вы с радостью отбросите всякое воспоминание обо мне, как пустой сон, от которого вы, к счастью, очнулись. Впрочем, желаю вам счастья и на том жизненном пути, по которому вы пойдете.
И они расстались.
– Дух, – сказал Скрудж, – не показывай мне больше ничего. Проводи меня домой. Неужели тебе доставляют наслаждение мои муки?
– Еще одна тень! – воскликнул дух.
– Довольно! – вскричал Скрудж. – Не надо! Не хочу ее видеть! Не надо!
Но дух остался неумолимым и, стиснув обе его руки, заставил смотреть.
Они увидели иное место и иную обстановку: комната не очень большая, но красивая и уютная; около камина сидит молодая девушка, очень похожая на ту, о которой только что шла речь. Скрудж даже не поверил, что это была другая, пока не увидел сидевшей напротив молодой девушки ее матери – пожилой женщины, в которую превратилась любимая им когда-то девушка. В соседней комнате стоял невообразимый гвалт: там было так много детей, что Скрудж, в волнении, не мог даже сосчитать их; и вели себя дети совсем не так, как те сорок детей в известной поэме, которые держали себя как один ребенок, – нет, наоборот, каждый из них старался вести себя как сорок детей. Потому-то там и стоял невообразимый гам; но, казалось, он никого не беспокоил. Напротив, мать и дочь смеялись