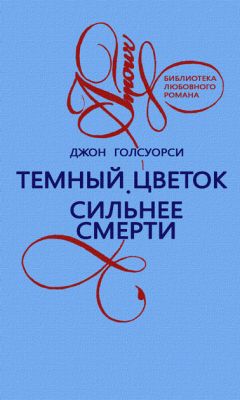Он ждал у двери и распахнул ее, когда легкие шаги прозвучали у самого порога. Она вошла, не сказав ни слова, даже не взглянув на него. Он тоже ни слова не произнес, пока не запер дверь и не убедился, что она действительно тут, у него. Потом они повернулись друг к другу. Грудь ее под легким платьем слегка вздымалась, но все же она была спокойнее его - чудесным спокойствием, не покидающим в любви красивую женщину, ибо она может сказать: "Вот воздух, дышать которым я рождена!"
Они стояли и смотрели друг на друга, словно не могли насмотреться. Потом он сказал:
- Я думал, что умру, так и не дождавшись этого мгновения. Не проходит минуты, чтобы я так стремился к вам, что жизнь мне не в жизнь.
- Вы думаете, я не стремлюсь к вам?
- Тогда приди ко мне!
Она поглядела на него печально и покачала головой.
Ну что ж, он знал, что таков будет ее ответ. Он еще не заслужил ее. Какое право у него звать ее, чтобы она пошла против всего света, чтобы презрела все, до конца доверилась ему? Он не мог настаивать, он начал вдруг понимать ту обезоруживающую истину, что отныне в его любви не ему решать; так велика была его любовь, что он перестал быть отдельным существом, наделенным отдельной волей. Он слился с нею и мог действовать лишь тогда, когда его и ее воля были едины. Никогда не скажет он ей: "Ты должна!" Он слишком сильно ее любит. И она это знает. И потому остается только забыть о своей боли и радоваться этому часу счастья. Но что ему делать с другой истиной: в любви не бывает передышки, не бывает остановок на полпути? Даже скудно поливаемый цветок будет расти, расти, покуда не настанет ему время быть сорванным... Этот оазис в пустыне, эти несколько мгновений с ней наедине, пронизанные горячим, испепеляющим ветром. Приблизиться к ней! Как не стремиться к этому? Как не жаждать ее губ, когда ему дана для поцелуев лишь ее рука? И как уберечься от горькой отравы, которую приносила мысль, что через несколько минут она покинет его и вернется к тому, другому, кто может, как бы отвратителен он ей ни был, видеть и касаться ее, когда захочет? Она сидела, откинувшись на спинку того самого кресла, в котором воображение недавно ему ее рисовало. А он отваживался лишь взирать на нее снизу вверх, примостившись на скамеечке у ее ног. И все, что неделю тому назад представлялось ему несказанным блаженством, оказалось теперь едва ли не мукой - так далеко это было от его желаний. Мукой было заставлять свой голос звучать в согласии с трезвой ласковостью ее голоса. Он думал с горечью: "Как она может сидеть так и не томиться по мне, как я томлюсь по ней?" Потом, почувствовав прикосновение ее пальцев к своим волосам, он потерял власть над собой и поцеловал ее в губы. Она уступила лишь на секунду.
- Нет, нет, не надо!
Ее неожиданный грустный отпор сразу же его отрезвил.
Он выпрямился, отошел в сторону, просил о прощении.
Когда она ушла, он сел в кресло, где она сидела. Это объятие, этот поцелуй, который он просил ее забыть - забыть! - этого у него никто не отнимет. Он совершил проступок, он ослушался ее, нарушил законы рыцарства! А между тем улыбка несказанного счастья не сходила с его губ. Его целомудренному воображению представлялось даже, будто бы это - все, к чему он стремился. О, если бы ему закрыть сейчас глаза и умереть прежде, чем покинет его эта радость полусвершения!
Все еще с улыбкой на губах лежал он в кресле и глядел, как под потолком вьются и гоняются друг за другом вокруг лампы мухи. Мух было шестнадцать, и они все кружились, все преследовали одна другую, без передышки, без остановки!
XII
Когда, вернувшись пешком из мастерской Леннана, Олив вошла в свою темную прихожую, она прежде всего поспешила к вешалке и окинула взглядом шляпы. Все на месте - и цилиндр, и котелок, и соломенное канотье! Значит, он дома! И в каждой шляпе по очереди она представила себе голову мужа - лицо отвернуто, и так ясно видны грубые складки на шее и на щеке. Она подумала: "Господи, хоть бы он умер! Это грешно, но я молю: хоть бы он умер!" Потом тихонько, чтобы он не услышал, поднялась наверх к себе в спальню. Дверь в его комнату была распахнута, и она подошла, чтобы закрыть ее. Он стоял там, спиной к окну.
- А! Ты вернулась! Куда-нибудь ходила?
- Да, в Национальную галерею.
То была первая сказанная ему ложь, и она, к удивлению своему, не испытала ни стыда, ни страха, а только нечто похожее на радость, оттого что может нанести ему поражение. Он был ее враг, стократ ей враг еще и потому, что в этой войне она воевала также против самой себя и, как это ни странно, ради него.
- Одна?
- Да.
- И не скучно было? Я бы на твоем месте взял себе в спутники молодого Леннана.
- Почему?
Инстинкт подсказал ей, что надо взять самый смелый тон; по ее лицу нельзя было догадаться ни о чем. Если он превосходил ее силой, она превосходила его быстротой ума.
Он опустил глаза и ответил:
- Ну, это ведь его профессия.
Пожав плечами, она повернулась и закрыла дверь. И долго сидела неподвижно на краю своей кровати. В этой схватке умов победила она, победит без труда и в других; но ей только сейчас стала до конца ясна вся мерзость ее положения. Ложь, ложь! Вот что отныне станет ее жизнью! Лгать - или же сказать "прости" всему, что ей дорого, и обречь мраку отчаяния не только себя, но и того, кто ее любит, - а во имя чего? Чтобы тело ее оставалось во власти мужчины, который стоит там, в соседней комнате, безвозвратно утратившего власть над ее душой. Таков был выбор. Если только слова: "Тогда приди ко мне" - были не просто словами. Но так ли это? Возможно ли это? Они сулят великое счастье, если - если только его любовь к ней не была лишь весенним увлечением. А ее любовь? Как знать, больше ли она, больше ли их любовь друг к другу, чем простое увлечение весны? А не зная, как причинить всем такую боль? Как нарушить клятву, которую она всегда считала позором нарушить? Как отважиться на бесповоротный разрыв со всеми традициями и убеждениями, в которых она взращена? Но в самой природе страсти есть нечто, противящееся вмешательству обдуманных и твердых решений... И внезапно Олав подумала: "Если наша любовь не сможет остаться такой, как сейчас, и если я все-таки не в состоянии буду уйти к нему навсегда, есть ведь и еще один путь..."
Она встала и начала одеваться к обеду. Стоя перед зеркалом, она подивилась тому, что на лице у нее нет и следов тех страхов и сомнений, которые сделались теперь ее неразлучными спутниками. Не потому ли это, что вопреки всему она любит и любима? Интересно, какое у нее было лицо, когда он так страстно поцеловал ее; обнаружила ли она свою радость, прежде чем оттолкнула его?
У нее в саду над рекой были такие цветы, которые, как ни ухаживала она за ними, вырастали чахлыми и не того цвета; им нужна была другая почва. Может быть, и она тоже, как те цветы? Дайте ей только нужную почву, и она распрямится, обретет верные краски!
И тут на пороге своей комнаты она увидела мужа. До этого она не испытывала к нему настоящей ненависти, но сейчас, при взгляде на него, почувствовала, что ненавидит его слепо и яростно. Что нужно от нее ему, так пристально на нее глядящему этими властными, налитыми кровью глазами, которые в одно и то же время грозят, вожделеют и молят? Она поплотнее закутала плечи шарфом. Тогда он шагнул к ней и произнес:
- Погляди на меня, Олив.
Она повиновалась, хотя все в ней восставало против этого. Он продолжал:
- Остерегись! Говорю тебе: остерегись!
Он взял ее за плечи и притянул к себе. Она, точно утратив всякую волю к сопротивлению, стояла покорно.
- Ты нужна мне, - проговорил он. - И ты останешься моею.
И вдруг, отпустив ее, прикрыл глаза ладонями. Это испугало ее больше всего: так непохоже на него это было только сейчас начала она понимать, между какими грозными силами она поневоле лавирует. Она не произнесла ни слова, но лицо ее стало белым. Не отнимая ладоней, он издал какой-то звук, нечленораздельный, нечеловеческий, повернулся резко и вышел. Она упала на стул перед своим туалетом, вся во власти какого-то нового, неведомого ей ощущения: словно она утратила все, даже любовь свою к Леннану, даже потребность быть любимой им. Какая цена этому, какая цена всему в таком мире? Все отвратительно, она сама отвратительна! Все пустота! Гадость, гадость! Словно у тебя вовсе нет сердца!
И в тот же вечер, когда муж ее уехал в парламент, она написала Леннану:
"Наша любовь никогда не должна обращаться в земную, как это чуть было не произошло сегодня. Все мрак и безнадежность. Он подозревает. Вам сюда приходить невозможно: для нас обоих это будет непереносимо. У меня нет права просить вас об осторожности, мне больно думать, что вы вынуждены лгать и таиться" и сама я не в силах этого сносить. Не знаю, что мне делать, что сказать. Не пытайтесь пока меня увидеть. Мне нужно время. Я должна подумать".
XIII
Полковник Эркотт не увлекался скачками, но все же, подобно большинству его соотечественников, питал религиозное почтение к Дерби, Связанные с Дерби воспоминания восходили ко дням его детства, ибо он родился и вырос чуть не у самой проезжей дороги на Эпсом. Дважды в году - в дни больших скачек - он на своем пони выезжал смотреть, как проплывают мимо цилиндры и перья великих мира сего, котелки и перья малых сих. А потом дома, на лужайке, скакал взапуски со стариной Линдееем, назначив финиш между коровой, она же - судья, и зарослью бурьяна, долженствовавшей изображать Главную трибуну.