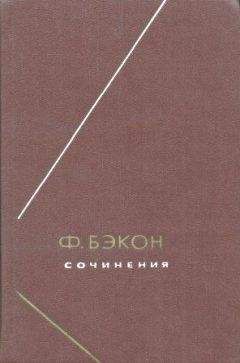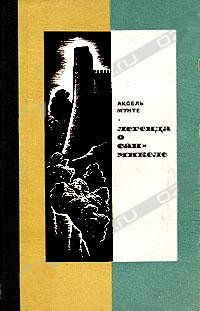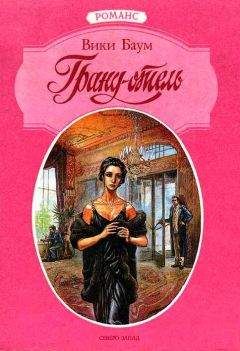А в музыке! Все дамы Возрождения играли на лютне, а позднее на арфе, клавикордах и клавесине. В течение ста лет девушки высших классов усердно барабанили по клавишам, но мне не известно ни одного первоклассного музыкального произведения, созданного женщиной, и я еще не встречал женщины, которая могла бы по-настоящему хорошо сыграть "Адажио Состенуто" Бетховена опус 106. Все барышни немножко рисуют, но насколько я знаю, ни в одной галерее Европы не найдется картины, подписанной женщиной, не считая, пожалуй, Розы Бонер, которая брилась и носпла мужскую одежду.
Одним из величайших поэтов древних времен была женщина. Из венка, обрамлявшего чело этой волшебницы, остались лишь несколько розовых лепестков, хранящих аромат вечной весны. Какая бессмертная радость, какая бессмертная печаль звенит в этой дальней песне сирены, прозвучавшей с берегов Эллады! Несравненная Сафо, услышу ли я вновь твой голос? Кто знает, может быть, ты еще поешь в каком-нибудь не найденном свитке, скрытом под лавой Геркуланеума!
- Мне надоело слушать про твою Сафо! - проворчал Норстрем. - Того, что я знаю о ней и ее поклонниках, для меня вполне достаточно! Мне надоело слушать о женщинах. Вино ударило тебе в голову, и ты наговорил кучу глупостей! Пойдем домой!
Когда мы шли по улице, моему приятелю захотелось пива, и мы сели за столик перед кафе.
- Bonsoir, cheri! [62] - окликнула Норстрема дама за соседним столиком. - Не угостишь ли кружечкой - я не ужинала!
Норстрем резко попросил ее оставить его в покое.
- Добрый вечер, Хлоя, - сказал я. - Как поживает Флопетт?
- Работает в переулках. На бульварах до полуночи ей нечего делать.
Но тут как раз появилась Флопетт и подсела к своей товарке.
- Вы снова напились, Флопетт! - сказал я. - Так вы скорехонько на тот свет отправитесь.
- И пусть, - сказала она хриплым голосом. - Хуже чем здесь, там не будет.
- Ты не очень разборчив в твоих знакомствах проворчал Норстрем, в ужасе глядя на проституток.
- У меня бывали знакомства и похуже, - сказал я. - К тому же я их врач. У обеих сифилис, остальное доделает абсент: они долго не протянут, а потом смерть - в Сен-Лазар или просто в канаве. Во всяком случае, они не скрывают, кто они такие. И не забывай, что такими их сделал мужчина и что другой мужчина стоит за углом, чтобы отобрать у них жалкие гроши, которые они от нас получают. И эти проститутки вовсе не так дурны, как ты думаешь: они до конца остаются женщинами, сохраняя все женские недостатки, но также и многие добродетели, которые не может уничтожить никакое падение. Как ни странно, но они способны на самую высокую любовь. Однажды в меня влюбилась проститутка она стала застенчивой и боязливой, как молодая девушка, и даже краснела под слоем румян. А это жалкое создание за соседним столиком могло бы при других обстоятельствах стать прекрасной женщиной. Дай я расскажу тебе ее историю.
- Помнишь, - начал я, когда мы медленно шли под руку по бульвару, женский пансион в Пасси, который содержат монахини ордена Святой Терезы, куда ты привозил меня в прошлом году к шведской девочке, умиравшей от тифа? Вскоре заболела еще одна девочка - хорошенькая пятнадцатилетняя француженка, и меня позвали к ней. Однажды вечером, когда я выходил из пансиона, меня вдруг окликнула уличная женщина, ходившая взад и вперед по тротуару. Я резко отвернулся, но она робко попросила разрешения сказать мне два слова. Она уже целую неделю поджидала меня здесь, но не решалась заговорить со мной, пока было светло. Она называла меня "господин доктор" и дрожащим голосом расспрашивала, как чувствует себя девочка, у которой тиф, и опасно ли это? "Я должна ее увидеть до того, как она умрет! - рыдала она, и слезы катились по ее накрашенным щекам. - Я должна ее увидеть, я ее мать!" Монахини ничего об этом не знали. Девочку отдали под их опеку, когда ей было три года, а деньги переводились через банк. Мать видела свою дочь лишь издали по четвергам, когда воспитанницы выходили на прогулку.
Я сказал, что состояние девочки мне очень не нравится и что я извещу ее, если наступит ухудшение. Она не захотела дать мне своего адреса и попросила позволения каждый вечер ждать меня на улице. И в течение недели я ее встречал на том же месте, где она с тревогой ожидала новостей. Я должен был сказать ей, что ее дочери становится все хуже, но, конечно, о том, чтобы привести эту несчастную к постели умирающей, не могло быть и речи. Однако я обещал дать ей знать, когда конец будет близок. Тогда она все-таки согласилась дать мне свой адрес. На следующий вечер, отправившись по этому адресу, я оказался на улочке позади Комической оперы - улочке с очень дурной репутацией. Извозчик многозначительно мне улыбнулся и предложил заехать за мной через час. Я сказал, что достаточно будет пятнадцати минут. Хозяйка заведения окинула меня проницательным взглядом, и затем меня проводили в зал, где сидели полуголые девицы в коротеньких муслиновых туниках, красных, желтых и зеленых. Кого я выберу? Я сказал, что я уже сделал выбор - мне нужна мадемуазель Флопетт. Мадам выразила сожаление: мадемуазель Флопетт еще одевается у себя в спальне - последнее время она относится к своим обязанностям очень небрежно. Я попросил, чтобы меня: сейчас же провели наверх. В таком случае я должен уплатить вперед двадцать франков, не считая того, что мне благоугодно будет дать мадемуазель Флопетт, если я останусь доволен, как оно, конечно, и будет - это очаровательная девушка, и очень веселая. Может быть, я пожелаю, чтобы наверх подали шампанское?
Флопетт сидела перед зеркалом и усердно румянилась. Она вскочила, схватила шаль, чтобы прикрыть свой профессиональный наряд, - а вернее, его полное отсутствие, и повернула ко мне лицо клоуна - пятно румян на щеках, один глаз подведен углем, другой красный от слез - Нет, она не умерла, но ей очень плохо. Монахиня которая дежурит ночью, переутомлена, и я обещал, что привезу на ночь свою сиделку. Смойте с вашего лица эту отвратительную краску, пригладьте волосы помадой, вазелином или чем хотите и наденьте вместо своего гнусного муслина форму больничной сиделки - она в этом пакете. Я взял ее у одной из моих сиделок, которая примерно одного с вами роста. Через полчаса я за вами заеду.
Она, онемев, смотрела мне вслед, пока я спускался по лестнице.
- Вы уже уходите? - спросила с удивлением хозяйка заведения. Я сказал, что хочу увезти мадемуазель Флопетт на всю ночь и иду за извозчиком. Когда я вернулся через полчаса, Флопетт вышла ко мне, закутанная в длинный плащ, ее провожали девицы в муслиновых туниках.
- Ну, и повезло же тебе, милочка! - смеялись они. - Едешь на маскарад в последний день масленицы. И вид у тебя очень элегантный, совсем как у порядочной. Жалко, что твой друг не пригласил нас всех!
- Веселитесь, дети мои, - улыбнулась хозяйка, провожая Флопетт до экипажа. - Попрошу вас пятьдесят франков вперед!
Сиделка была уже не нужна. Девочка умирала. Она была без сознания, и жизнь в ней еле теплилась. Мать всю ночь провела у кровати дочери и сквозь слезы смотрела на умирающую.
- Поцелуйте ее, - сказал я, когда началась агония. - Она без сознания.
Флопетт склонилась над девочкой, но тут же отпрянула.
- Я не должна ее целовать, - сказала она, зарыдав. - Вы ведь знаете, какая я!
Когда я снова увидел Флопетт, она была мертвецки пьяна. Через неделю она бросилась в Сену, Ее вытащили, и я попробовал устроить ее в больницу Сен-Лазар, но там не было свободных коек. Через месяц она выпила пузырек опия и уже умирала, когда я пришел. Не могу себе простить, что выкачал яд из ее желудка. В руке она сжимала детский башмачок, в котором лежала прядь волос. Теперь она пьет абсент - тоже надежный яд, хотя и не столь быстро убивающий! И теперь ее ждет какая-нибудь канава, где утонуть легче, чем в Сене.
Мы подошли к дому Норстрема на улице Пигаль.
- Спокойной ночи, - сказал мой друг. - Спасибо за приятный вечер!
- И тебе тоже, - сказал я.
Глава X
DER LEICHENBEGLEITER [63]
Пожалуй, чем меньше я буду рассказывать о поездке в Швецию, которую я совершил в то лето, тем будет лучше. Норстрем, снисходительный летописец приключений моей молодости, сказал, что ничего хуже он от меня не слышал. Теперь эта история никому, кроме меня самого, не повредит, и потому я могу спокойно изложить ее здесь.
Профессор Бруцелиус, самый знаменитый врач Швеции в те дни, попросил меня поехать в Сан-Ремо, чтобы привезти на родину одного из его пациентов молодого человека в последней стадии чахотки, который провел там зиму. За последнее время у него несколько раз шла горлом кровь. Состояние его было настолько тяжелым, что я согласился его сопровождать лишь при условии, что с нами поедет кто-нибудь из родственников или, по крайней мере, надежная шведская сиделка, - приходилось считаться с тем, что он мог умереть в пути. Четыре дня спустя в Сан-Ремо приехала его мать. Мы предполагали сделать остановки в Базеле и Гейдельберге, а в Любеке сесть на шведский пароход в Стокгольм. В Базель мы приехали вечером, после очень тяжелого дня. Ночью у матери сделался сердечный припадок, чуть было не оказавшийся роковым. Утром приглашенный мною специалист согласился со мной: отправиться дальше она сможет не раньше, чем через две недели. Я оказался перед альтернативой оставить юношу умирать в Базеле или продолжать поездку с ним вдвоем. Как все умирающие, он стремился вернуться на родину. Правильно или нет, но я решил ехать. На другой день после нашего приезда в Гейдельберг у него началось сильное легочное кровотечение, и о том, чтобы ехать дальше, уже не могло быть никакой речи. Ему я сказал, что мы проведем тут несколько дней, пока к нам не присоединится его мать. Он же не хотел задерживаться даже на одни сутки. Вечером он усердно изучал расписание поездов. Когда я заглянул к нему в номер после полуночи, он мирно спал. Утром я нашел его в постели мертвым причиной смерти, без сомнения, было внутреннее кровотечение. Я телеграфировал своему коллеге в Базель, прося сообщить о смерти юноши его матери и получить ее распоряжения. Профессор ответил, что состояние его пациентки настолько серьезно, что он не решается передать ей печальное известие. Я не сомневался, что она пожелала бы похоронить сына в Швеции, и обратился за советом к гробовщику. От него я узнал, что труп полагается бальзамировать - стоило это две тысячи марок. Я знал, что семья не богата, и решил бальзамировать сам. Времени терять было нельзя - был конец июля и стояла сильная жара. С помощью служителя анатомического театра я в ту же ночь произвел полное бальзамирование, что обошлось в двести марок. Это был мой первый опыт, и, должен признаться, отнюдь не удачный. Свинцовый гроб был запаян в моем присутствии. Внешний дубовый гроб, согласно железнодорожным правилам, был заколочен в обыкновенный ящик. Обо всем дальнейшем должен был позаботиться гробовщик - отправить гроб поездом в Любек, а оттуда пароходом в Стокгольм. Суммы, которую я получил от матери на дорогу, едва хватило, чтобы заплатить по счету в гостинице. Как я ни спорил, мне пришлось уплатить бешеные деньги за постельные принадлежности и ковер в номере, где умер юноша. Оставшихся денег мне едва хватило бы на билет до Парижа. Со времени моего приезда в Гейдельберг я не выходил из гостиницы и не видел ничего, кроме сада под ее окнами. Я решил посмотреть хотя бы знаменитые руины замка, прежде чем покинуть Гейдельберг - как я надеялся - навсегда. Пока я стоял у парапета и глядел на долину Неккара у моих ног, ко мне подбежал щенок таксы, быстро семеня кривыми лапками, и тотчас облизал мне все лицо. Проницательные глаза собачки сразу разгадали мою тайну: тайна же моя заключалась в том, что я давно и пламенно желал иметь такого вот маленького вальдмана, как называют этих очаровательных собак у них на родине. Как ни мало у меня было денег, я тут же купил таксу за пятьдесят марок, и мы торжественно отправились в гостиницу. Такса бежала позади меня без поводка, твердо зная, что ее хозяин - я, и только я. Утром мне был подан счет из-за некой неприятности, которая приключилась с ковром в моем номере. Мое терпение лопнуло - я уже истратил восемьсот марок на ковры в этой гостинице. Два часа спустя я презентовал ковер из номера скончавшегося юноши старому сапожнику, который чинил сапоги перед своим убогим домиком, полным оборванных детей. Директор гостиницы онемел от ярости, зато сапожник обзавелся ковром. Мои дела в Гейдельберге были закончены, и я намеревался с утренним поездом уехать в Париж. Ночью я передумал и решил все-таки поехать в Швецию. Ведь в Париже меня ждали не раньше, чем через две недели, своих больных я поручил Норстрему и уже телеграфировал брату, что несколько дней погощу у него в нашем старом доме. Я понимал, что, откажись я от этой поездки сейчас - и мне, быть может, не ! скоро представится случай побывать в Швеции. Мне не терпелось как можно скорее покинуть эту злополучную гостиницу, но на пассажирский берлинский поезд я уже опоздал, и поэтому решил поехать в Любек с вечерним поездом, с которым должны были отправить гроб, а потом на том же пароходе добраться до Стокгольма. Едва я сел поужинать в станционном буфете, как официант предупредил меня, что водить собак в зал verboten [64]. Я сунул пять марок ему в руку, а таксу под столик и начал есть, но тут у дверей раздался громовой голос: