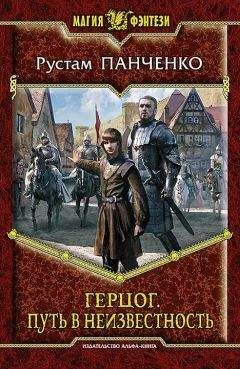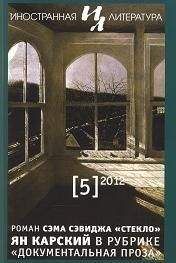Пока мы говорили, в бычатнике становилось тише, это девочки, задавая корм, дошли до конца. И сразу, не возвращаясь, побежали в другой конец фермы. Оказывается, «ТО там крохотные телятки, их любимчики. Пошли и мы. Тамара, еще Оля и Люба.
— Кормлю, кормлю их да зареву от радости, — гордо говорит Оля. — Ой, а утром, к пяти часам, по грязи, ой! Будильник звонит, чтоб провалился! Но как вспомнишь, что голодные, что ждут, прямо бегом бежишь. Раз сапог засосало в глину, еле вытянула.
— Эти приживутся девочки, — говорила старшая, когда шли обратно. Девочки впереди, а мы отстали. — Как только станет жалко телят — все, можно не уговаривать. А не жалко, не удержишь, хоть золотом облепи., Вы хоть им скажите, мы нм говорили, да, может, они закрутились (это о председателе и зоотехнике), чтоб сделали двери: уж скоро снег. И картошку, и присыпку, все руки вытянуло таскать. — И опять, с какой-то покорностью, говорила о пожаре, показывая пустое место в ряду домов. Попрощались с ней, она на прощанье, оправдываясь, что поплакалась мне, сказала: «Чужу ведь беду и непосолену съешь, а своя и посахарена не мила».
Все срываюсь на очерк. Или нет? Ну, еще немного. Девочки пригласили поглядеть их гостиницу. Заходил в обе половины. Чисто все, аккуратно. Под окнами цветники, обведенные крашеными кирпичами. Я похвалил, девушки засмеялись. Оказалось, что и кирпичи, и колка дров — все это дело направленного и упорядоченного движения поклонников. Ребят в колхозе много. Вот завтра будут провожать девятерых в армию. Достали фото и показали, кого именно. Запомнил Тебенькова и Бессолицына. Девчата едут за подарками и продуктами от правления.
Другое меня насторожило. Девчата живут в гостинице, а их деревня, например, Плесо Оли Ивановой, недалеко. Нина Волкова живет вообще рядом, через три дома. Так же Таня Корепанова. Оправдывались тем, что рано вставать, а тут все вместе. Веселей. Но ведь можно приходить… Побыв еще в колхозе, понял, что во многом не прав. У одной пьет отец, у другой — очень тесно. И даже не в колхозе это узнал, а в больнице, у мамы, где сегодня был лишь раз. Мама еще раньше говорила, что в палате лежит тяжело больная женщина, Корепанова. «В виду гаснет». Разговорились, все сошлось: и деревня, и фамилия, узнал еще, что Таня изредка приезжает.
Вряд ли смогу написать о девчатах, хотя автоматически записал нужные данные. Но помнятся не они, а другое. Например, как при мне принесли почту. Тамаре солдатское письмо. Она запрыгала, все заставили плясать, и она отбила дробь, а когда прочла, разревелась. «За границу, что ли его? Че ревешь-то?» — спросили ее.
На крыльце независимо курили строители, со стороны, как мне объяснили. «Почуяли, что наши в армию уходят. — . говорили девочки. — Ну наши их на прощанье отчистят».
— О, о! — заигрывал самый высокий, усатый. — Улыбаются, как майские розы. Ох, увезем, ох, увезем!
Меня строители как соперника в расчет не брали, что печально, но факт, и если есть в тебе, женушка, ровность, забрось ее. Да, товарищи, дожил я до тех времен, когда если взглянет девушка, то думаю, что или лицо в саже, или одежда но везде застегнута.
Обедали на скорую руку в колхозной столовой. Начальство оставляло, да их можно понять, и я еще недавно любил эта сидения с серьезными мужиками, выстраданные разговоры о положении дел страны и хозяйства, сейчас нет сил. Дороги, снос деревень, снабжение, строительство шабашниками (строят плохо, рвут много). снова дороги, пьянство, хулиганство… Решив эти проблемы, переходили ругать начальство, потом жалеть его, потом наступала очередь политики. Но нет уже моих сил, надо же чем-то благодарить за встречу, а чем? Разговором? Вот на него-то и нет см.
В машине говорили о том, почему это колхознику нельзя купить лошадь. Лошадь, в ней спасение. Посмотрели на меня. Ну, напишу, ну и что?
Лошадь не просто тягловая сила, она живая, она ест меньше коровы, она по плохой дороге пройдет где угодно, она ее не изуродует, для одвориц она незаменима, лошадь вызовет к жизни умирающие мужицкие ремесла: делание саней, полозьев, дуг, воскреснут Шорники, колесники, мужики тем самым отобьются от пьянства… Слава лошади!
Но ведь эти, в редакций, закапризят, им выкладки подавай, да еще чтоб чье-то было авторитетное мнение, а это значит — бегай две декады за референтом министра, он будет тянуть, в редакции охладеют, начнется какая-либо кампания, прощай, отдаленное ржанье коня.
Перехожу к поцелуям. А еще кланяюсь любезной супружнице, в вере и благочестии хранящей тепло домашнего очага. И деточек любезных целую и чаю встречи, хоть и не скорой, но желанной. Салют! Ах, какой вечер! Рябины какие на закате и лиственницы какие. Стыдно, что я это вижу, а вы нет. Желаю вам то же увидеть, что и я, но не то же пережить. Сейчас материал мой и полосе, ясно, что кастрированный. Уж хоть бы давали под презренным псевдонимом. От них дождешься! Именно там и ославят, где свою ересь вставят. Впрочем, я и сам хорош. Пишу последнее время, как нынче строят — блоками, готовыми фразами, а ведь слышу прекрасный язык, то есть потерял способность быть естественным. Это все мы, газетчики, виноваты.
Дозвонился и рад письменно подтвердить сказанное: если в самом деле интересно читать мои письма, то я и дальше с радостью буду загружать почту. На почте, пока ждал, ввалилась артель энергичных смуглых хлопцев и с ними дядька Черномор, который кричал в трубку:
— Дивушка! Кулхос Свертлова ната!.. Кулхос Свертлова? Гылавной бугахтер ната!.. Аликсевна! Ибрагим эта. Деньги сывинарник ната! — Потом этот Ибрагим долго слушал, сказал: — Досвидань! — а своим сказал: — Сапсим ничево не слышна.
Их много, приезжих, строится всего много. Тут есть и другая сторона, они молодые, женятся, или, как говорят, поджениваются.
Был в больнице, да неудачно, мама спала. Ее разбудили, я не знал, что спала, и она вышла по стенке, потихоньку вышла.
Такое солнышко, так тихо падают мягкие иголочки с лиственниц, такая теплая лавка под березой, что мама ожила и даже радовалась, что разбудили, чтоб поспать потом, в свое время, а то ночью мучилась головой. Рассказал ей об Ибрагиме. К случаю мама вспомнила, что у одной молодушки родился черный ребенок.
— Ну не черный, чернявый. И ее матери пришлось признаться, что она эту свою дочь родила от цыгана. А дочь родилась беленькая, а на внучке откликнулось. Или был у нас начальник почты, сам русый, жена темная, а девки, семь девок, — все рыжие. Так разобрались, что прадед его был рыжий. А-а! — машет мама рукой. — В народе говорят: чей бы бык ни прыгал — телята наши. У нас было в роддоме, подменили нечаянно девочек: русской дали марийку, а марийке русскую. Подросли, стали сильно походить на отцов. А как менять? Привыкли. Совсем подросли, совсем пошли в свое родство, всем было заметно. Так и остались.
Вчера был момент, когда душа готовилась открыться для красоты. Возвращались через перевал, и на его вершине я просил остановиться. Увижу даль беспредельную, затканную солнечным туманом, думалось мне. Но открылся пейзаж печальный.
— Тут была деревня Брызгалово, тут Винный Ключ, там Черный Ворон, там Прутки, там Красный Яр… — так объясняли мне, указуя рукой на пейзаж, утыканный столбами, на изуродованные поля, искалеченные перелески, на железные остовы техники.
Воспоминание ворвалось не оттого, что забыл вчера написать, но еще и оттого, что из меня проеханное, пройденное пространство не сразу выходит. Помню первые сибирские командировки, в них старался, не заботясь о радикулите, сесть к окну. О, снега облаков, о, рассветное стремительное солнце над океаном, о, встреча с истребителем, о! А ночью какая красота — огни городов, как драгоценности на бархате ночного столика королевы. Вот, милая, образец того, что из меня медленно выходит не только пространство, но и поэтическая дурь.
Теперь думаешь в самолете — уснуть бы скорее, да чтоб стюардесса была не злая. Чего еще надо путешествующему по казенной надобности?
Сегодня покровская родительская суббота… Узнал об этом от мамы и еще в больнице видел поминальные пироги в передачах. Пошел на кладбище, на нем никого родных, мы ведь не местные, но потянуло. А помнишь, мы целовались на кладбище? Незабвенно! Сейчас ты скажешь, что я с кем-то другим целовался, забыла! Конечно, там и пушкинское мелькнуло, чтоб не было стыдно перед покойниками: «И пусть у гробового входа младая будет — жизнь играть…» Потом, позднее, в дни ссоры, меня занесло туда, та гробница Морозовых была закрыта, но я перелез и затаился. Помню, было состояние, что жизнь не получилась, жена в мое писательство не верит, значит, не любит.
Ходил по кладбищу. Сидят у могилок на солнышке стайками, выпивают коньяк. Именно коньяк, только его и завезли. Старушка, заметив, что я нигде не пристал и все хожу, спросила: «Никого нет тут у вас? Не пустили еще корни?..»- и подала яичко. Принял я его и решил, что не грех и выпить. А здесь, на горе бедным женщинам, открыли» рюмочную. В ней все в два раза дороже. Только «бедные» женщины в рюмочной составляли изрядный процент. Тревога за них, им гораздо труднее отвыкать от табака и вина. Еще думал, что страдание — в сочувствии. Несочувствующие бесстрастны. В рюмочной женщина, еще не в годах, лицо в красных пятнах. Я посмотрел, поставив на столик порцию, она заплакала вдруг: «Не глядите на меня, не надо, не запоминайте».