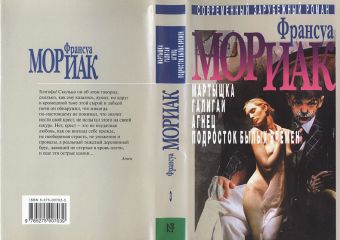- Никакая другая женщина? - спросил я.
- Да, конечно, - сказала мама.
- Значит, она его любит!
Этот вывод напрашивался сам собой, я сообщил его самым естественным тоном и был поражен тем эффектом, который он произвел. Правда, хоть мне и исполнилось в том году четырнадцать лет, со мной обращались так, как сейчас не обращаются даже с восьмилетними.
- Что ты выдумываешь? Пустомеля! Сам не понимаешь, о чем говоришь.
- Раз говорю - значит, понимаю.
- И тебе не стыдно? В твоем-то возрасте! Что подумает о тебе господин настоятель?
- Устами младенца порой глаголет истина, - сказал настоятель.
Он встал и забегал вокруг бильярда, бормоча про себя:
- Как мог я быть таким слепцом...
- Но, господин настоятель, разве вы могли предположить... Госпожа Дюпор, в ее возрасте!
- Это страшный возраст, увы... Заметьте, по моему мнению, тут Симону ничто не грозит - я знаю, как он...
Он оборвал фразу, боясь, что сказал лишнее. Все, что он мог сказать о Симоне, даже хорошее, нарушало тайну исповеди.
- Да, - произнес я, - но, по словам Симона, она ест его глазами, пока он ест свой "полдник". Может быть, в один прекрасный день ей этого станет мало...
- Что это ты хочешь сказать? Да кто тебя научил?..
- Это верно, - вполголоса проговорил настоятель, - есть такие людоедки...
- И людоеды, - добавил я невинным тоном.
- Людоеды? Какие людоеды?
Они уставились на меня в тревоге: на что я намекаю? Да, без сомнения, ничего определенного я им сообщить не мог или предпочел умолчать, однако я знал, что людоеды бродят вокруг всех пятнадцатилетних мальчиков, но приближаются, лишь если чувствуют молчаливое согласие.
- Это приводит в трепет, - сказала мама. - Зачем существует зло? добавила она в раздумье, сама не понимая, что задает единственный вопрос, способный подорвать веру.
Постараюсь вспомнить все, что они придумали, чтобы спасти Симона от этой вампирши. Кюре попросил своего собрата из Шаранты пригласить Симона поохотиться, и тот задержал его до начала занятий. В этот год Симон вернулся в семинарию, не заезжая в Мальтаверн.
Что касается меня... Осмелюсь ли я самому себе рассказать, какую шутку сыграл я с настоятелем? Да, это необходимо, чтобы ясно представить себе, кто же я такой на самом деле. Седьмого сентября, в канун Рождества Богоматери, мама без лишних слов объявила мне, что господин настоятель ждет меня в три часа к исповеди: "Ты тогда успеешь пройти до всех этих дам". Подобное вторжение в религиозную жизнь четырнадцатилетнего мальчика казалось ей совершенно нормальным. Я был для нее ребенком, за которого она считала себя ответственной перед богом. Злой, раздраженный (но не взбешенный, как это было бы сейчас), я все же понимал эту совестливую христианку, передавшую мне по наследству свою больную совесть, от которой я не вполне излечился и в семнадцать лет. Должно быть, ее все еще мучило то, что я посмел сказать о людоедах: во время покаяния я выложу все до конца. Разумеется, для нее и речи быть не могло, чтобы нарушить тайну исповеди: мама не стремилась "знать". Для успокоения ей достаточно было снова "прибрать к рукам" своего мальчика, который вступал в опасный возраст. Я взбунтовался: после конкордата день Рождества Богоматери не был уже обязательным праздником.
- В нашей семье, - возразила мама, - он остался обязательным. Мы всегда соблюдали его. Наши фермеры не пашут на волах в этот день. К тому же господин настоятель ждет тебя. И говорить об этом больше нечего.
- Но ты же не заставляешь Лорана...
- Лорану восемнадцать лет. Ты еще ребенок, и я отвечаю за тебя.
Сам дьявол подсказал мне эти слова:
- Если я дурно исповедуюсь, у меня будет дурное причастие. И оба греха лягут на тебя.
Она побледнела, вернее, щеки ее приобрели землистый оттенок. Я бросился ей на Шею:
- Нет-нет, я пошутил, я буду и исповедоваться и причащаться...
Она прижала меня к груди.
По дороге в церковь злость охватила меня с новой силой, но теперь она целиком обратилась против ни в чем не повинного настоятеля. Я силился побороть ее, мне ни к чему была дурная исповедь... "Ну что ж, - подумал я, - ладно, скажу ему все и даже больше, чем он пожелает, больше, чем ему когда-либо приходилось об этом слышать".
Он читал требник, сидя около исповедальни. Он еще некоторое время продолжал читать, потом спросил, готов ли я, вошел в свою каморку и снял с гвоздя епитрахиль. Я услышал, как открылось окошечко, и увидел его огромное ухо. Сообщив, что не исповедовался с 15 августа, я отбарабанил Confiteor [молитва перед исповедью (лат.)] и выложил recto tono [напрямик (лат.)] свой обычный малый набор, который не менялся со времен первой исповеди: "Грешен в чревоугодии, лжи, непослушании, лени, плохо молился, плохо слушал мессу, повинен в гордыне, злословии..."
И это все? У него был разочарованный вид. Да, думаю, что все.
- Ты уверен, что тебя ничто больше не тревожит? Может быть, какие-нибудь мысли...
Я спросил:
- Какие мысли?
Он не настаивал: не очень-то он доверял мне, этому маленькому чудовищу, но вполне вероятно, что я мог быть и чудовищем невинности.
- Всегда ли ты исповедовался искренне?
Вот тут дьявол обуял меня и подсказал мне ответ:
- Нет, отец мой.
- Как? Надеюсь, ничего важного ты не утаил?
- Не знаю. Может быть, это и есть самое важное.
- Бедное мое дитя! Твоя мать, твои наставники, сам я, все мы всячески остерегали тебя против малейшего отклонения от святой добродетели...
Так он именовал целомудрие. Я возразил, что в этом пункте ни в чем серьезном упрекнуть себя не могу. В то время это была чистая правда. Каким невинным мальчиком был я всего три года назад...
- Однако ты сказал, что речь идет о самом важном... Что же это значит?
- Важно это иди нет, судить вам. Так вот, я - идолопоклонник.
- Идолопоклонник? Да что ты болтаешь?
- Я не могу сказать, что в буквальном смысле поклоняюсь идолам. Я исповедую тайный культ. Знаете большой дуб в парке?
- Ну, не такой уж он большой, - заметил кюре, видимо желая вернуть меня на твердую почву, в наш падежный мир, где все можно измерить и взвесить.
- Для меня он - бог, да, с сознательного возраста я всегда считал его богом и поклонялся ему.
- Вот оно что! Ты поэт, известное дело (он произносил "пуэт"). Тут нет ничего плохого.
- Я так и знал, отец мой, что вы мне не поверите. Это и мешало мне до сегодняшнего дня исповедаться в своем грехе: я боялся, что никто мне не поверит, даже вы. Но поймите, я придумал богослужение в честь большого дуба, я приношу ему жертвы...
- Полно, полно! Это вполне дозволенная пуэзия, дурачок. Чего ты добиваешься? Уж не думаешь ли ты посмеяться надо мной? Тогда это было бы большим грехом: над богом не смеются.
- Я не смеюсь над вами, просто я понимаю, что вы не в силах мне поверить.
- Все пуэты, и христианские тоже, поклоняются природе - это дозволено.
- То, что делаю я, не имеет ничего общего с излияниями Ламартина или Гюго. Уверяю вас, все деревья для меня живые, все они божества, особенно сосны в парке. Я предпочитаю их людям, - добавил я, с наслаждением отдаваясь во власть рассчитанного и в то же время искреннего вдохновения.
Да, люди уже и тогда внушали мне страх, даже те будущие люди, с которыми я имел дело в коллеже. Правда, наших религиозных наставников, даже самых плохих, я не боялся, потому что их держали в узде благочестие и суровые правила. Но мои соученики! Эти уже были способны на все! Помню, я все перемены просиживал в уборной, умирая от страха при одной мысли о мяче, летящем мне прямо в лицо...
- Полно, Ален, вернемся к серьезным вещам.
- Почему, - воскликнул я в тоске, не притворной, но все же сознательно вызванной и даже не лишенной самолюбования, - почему отказываете вы мне в прощении, не желая принять мои признания всерьез?
Кюре привычным движением разминал свое лицо, словно вылепленное из глины. Внезапно он спросил меня:
- Ты поклоняешься всем деревьям или только большому дубу?
- Нет, все они, разумеется, живые существа, но только большой дуб бог.
- Что ж, это было тебе дано в откровении?
Я видел, как он качает своей большой головой. Постучать себя пальцем по лбу он не решился.
- Нет, у меня не было никакого откровения. С тех пор как я себя помню, я поклонялся земле, деревьям...
- Но не животным? И то хорошо.
- Нет, не животным... Хотя нет! Я в самом деле забыл, - сказал я, - но теперь все вдруг вспомнилось. Вы знаете, отец мой, заброшенную ферму?
- В Силе? Да.
- Когда мне было семь или восемь лет, не знаю уж, кто или что навело меня на мысль, будто в заброшенной ферме живет наша ослица Гризета, которая к тому времени давно околела от старости. Я твердо в это уверовал и убедил также Лорана, хотя он старше меня. Мы ходили к заброшенной ферме и перед запертыми на замок воротами распевали какое-то дурацкое славословие: "Гризета, милая моя, мы поздравляем все, любя, с веселым праздником тебя, мы принесем тебе овес и засахаренный абрикос..."

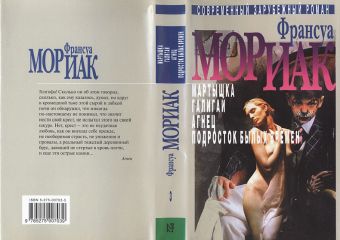
![Франсуа Мориак - Том 3 [Собрание сочинений в 3 томах]](https://cdn.my-library.info/books/135894/135894.jpg)