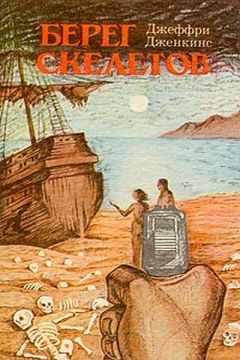Ознакомительная версия.
И тогда я решила пойти к ней. К той, которая стояла рядом с его матерью у гроба. К циркачке Ядвиге. К «девчонке, которая умеет летать» – так он её называл в своих рассказах… Я подумала: только она может понять мои стихи. Только ей они, может быть, по-настоящему нужны.
Я слышала, что она выступает в новой программе в Большом цирке на Воробьёвых горах. Набравшись духу, иду…
Старенький дежурный у служебного входа. Наверное, бывший артист, вышедший на пенсию, но не пожелавший расставаться с цирком. Из цирка просто так, по своей воле, не уходят. Только если умирают…
Прошу позвать её – Ядвигу Кокину. Кстати, она латышка, из Риги.
Дежурный куда-то звонит, говорит мне дружелюбно:
– Сейчас она выйдет. А это ваша родственница?
Почему он так решил? А… голубые глаза. А так, вроде, ничего общего, по-моему. Только глаза. Ведь у меня тоже есть немного «прибалтийской» крови – чуть-чуть эстонской, чуть-чуть польской. Меня уже не раз в жизни спрашивали: «Вы не из Прибалтики?» – и приходилось отвечать: «К сожалению, нет. Даже никогда не была там». И в этот раз я ответила с сожалением:
– Нет, не родственница.
– А кто? – не унимался он.
– Подруга.
Почему я так сказала? Потому, что так чувствовала. Ещё с прошлого лета, когда звонила иногда Моему Клоуну, а трубку брала она. Но знакомы мы не были. Просто я знала, что это – она, «девчонка, которая умеет летать». Так называл её он. Но в то лето она не летала, а лежала, скованная гипсом, а он и его мама за ней ухаживали… и телефон стоял у её кровати… Он называл её очень светло – «Яся»… – ясная, светлая… Первый раз я увидела её на похоронах, когда она стояла рядом с его мамой… и я догадалась, что это она – Яся, девчонка, которая умеет летать…
– Хорошо работает ваша подруга, – говорит дежурный с улыбкой. – Восстановиться после таких тяжёлых травм, какие у неё были, и опять летать – не каждый сможет. Да вы проходите, посидите в вестибюле.
Сижу. Хожу. Жду… Жду долго… Или мне кажется, что долго? Её всё нет. Меня охватывает смятение: Господи, зачем я пришла сюда? Что я скажу этой женщине? Что она скажет мне? И что я, вообще, хочу от неё услышать? А если она скажет… «Зачем вы пришли ко мне? зачем мне ваши стихи? мне и так больно, а вы ещё посыпаете солью раны…» Может она так сказать мне? Может она увидеть во мне соперницу? Может она испытать ревность?… Наверное, может.
Хотя… кого и к кому теперь ревновать? и за кого соперничать?… А за память соперничать невозможно. У каждого она – своя. Своё побережье памяти… И чем больше нас – тех, кто его помнит – тем ему лучше. Наверное… Если вообще наши чувства и переживания его как-то касаются – в его далёком далеке… В его невозможном далеке…
Видит ли он нас? слышит ли он нас? значим ли мы для него хоть что-то – мы, оставшиеся на этой грустной и пустой земле… Бесконечно грустной и пустой без него…
Ну, тогда повернусь и уйду, если она что-то такое скажет, что-то болезненное для меня.
Боже мой, идёт!… Высокая, стремительная, гибкая, как кошка, как пантера – в своём чёрном трико. А глаза не просто голубые – синие, пронзительные…
– Здравствуйте, – говорю охрипшим от долгого ожидания голосом.
– Здравствуйте, – говорит она, удивляясь.
– Это – вам, – говорю я и протягиваю ей целую гору страниц.
– Мне?… – удивляется она ещё больше.
– Да. Это стихи о Лёне. Кроме вас, я думаю, их никто не поймёт. Поэтому я принесла их вам.
Она смотрит на первую страницу… как будто что-то вспоминая… И вдруг говорит тепло, с мягкой улыбкой:
– Мне знакомо ваше имя. Лёня показывал мне ваши стихи. Я прочту, конечно. Сегодня же прочту. А сейчас, извините, мне надо готовиться к выходу, я участвую в парад-алле… До свидания. Заходите ещё.
– Когда?
– Когда вам будет удобно.
* * *
На творческом семинаре в Литинституте.
– Ну, прочтите нам что-нибудь, – говорит Евгений Долматовский, руководитель нашего семинара. – Вы так долго отсутствовали. Ну-с, чем вы нас порадуете?
Мне трудно читать свои новые стихи вслух. Потому что ком подступает к горлу… и я начинаю жутко волноваться, и голос начинает рваться… голос последнее время плохо меня слушается. Но я попробую… попробую справиться.
* * *
Как быть должно – пусть будет так,
Уж если я на жизнь решилась…
Друзья ли, молодости сила
Внушили мне? Но этот шаг
Я всё же предпочла – тому,
Чтоб следом за тобою – тенью…
Но я туда проникну пеньем,
В пласты земли – в покоя тьму…
Не зарекаюсь. Может быть,
Не скоро – но вполне возможно:
Влюбляться буду…
Но любить –
Всей мукой, всей тоской, всей кожей?…
– Так… понятно. А ещё что-нибудь?
* * *
Безлунная и беззвёздная ночь.
За парапетом набережной
земля обрывается –
безликая тьма…
И в ней
ворочается и вздыхает
что-то невидимое – но огромное,
шипит,
бормочет,
влажно и тепло дышит в лицо…
Я знаю – это вечный Хаос,
который когда-то породил нас
и все наши страдания –
и безжалостную надежду
на слишком скорое избавление…
– А повеселее у вас ничего нет?
* * *
Предчувствия
никогда не обманывали меня.
И теперь они –
как неумолимые билетёры
в дверях Волшебного Театра –
которые упрямо твердят мне:
«Сезон окончен.
Больше ничего не покажут…»
Евгений Аронович смотрит на меня неприязненно и говорит строго, даже жёстко:
– Вы слишком молоды, чтобы писать такие трагические стихи!
– Когда-нибудь и я постарею, возраст – дело наживное… Но вряд ли я когда-нибудь буду писать оптимистические стихи. Для этого нет повода.
– А почему нет рифм?
– А рифмы здесь не нужны. Мне сейчас вообще не до рифм… И потом, я пишу так, как выливается из души, я всегда так писала. Когда приходит стихотворение, я не думаю в этот момент, в рифму оно или не в рифму – просто записываю его, и всё.
– Творчество должно быть управляемым процессом. Почему столько стихов на одну тему? Вы перепеваете саму себя.
Перепеваю саму себя?… Не себя перепеваю, а свою тоску. Просто она никак не выльется вся из души…
* * *
Через несколько дней.
Опять прихожу в цирк на Воробьёвых горах. Старенький дежурный уже узнаёт меня. Опять жду… Страшно волнуюсь. Господи, как я волнуюсь! Почти так же, как когда ждала у служебного входа Моего Клоуна…
Брожу по громадному, холодному вестибюлю… стою у огромного, настуженного окна, у стеклянной, ледяной стены… Всё такое огромное и холодное. Весь мир такой огромный и холодный. Как громадный кусок льда. Как будто наша Земля уже давно остыла и превратилась в кусок льда… А за ледяной стеной – осень, дождь… и жёлтые листья распластаны на мокром, чёрном асфальте – как маленькие распятья, растоптанные сотнями ног…
…Низкое, мрачное небо, обкусанное тёмными, тяжёлыми крышами…
…Ядвига выходит из-за кулис, высокая, стремительная… такая вся светлая, синеглазая… Короткие светлые волосы слегка растрёпаны… быть может, она только что репетировала… Я готова к каким угодно словам, к какой угодно реакции… я так переволновалась, пока ждала её, что сделалась совершенно бесчувственной. Как будто мёртвой. Она стремительно подходит ко мне и порывисто, горячо обнимает:
– Спасибо! Спасибо вам! Вы написали то, что я сама хотела бы написать, только я не умею… Я плакала, когда читала… очень плакала. А потом мне стало легче… Они – мои?
(И он меня так же спрашивал всегда!)
– Я не должна возвращать их вам? – спрашивает она. – Я не хотела бы с ними расставаться.
(И он говорил так всегда! Он тоже никогда не хотел расставаться с моими стихами!)
– Они – ваши, – говорю я. И чувствую, как тепло разливается по моему телу, тепло заливает сердце, и я опять становлюсь живой…
Она обнимает меня: «Спасибо!». Нет, она не увидела во мне соперницу. Она не почувствовала ревности. Она увидела и почувствовала во мне сестру.
…Так потом и будет, в течение многих лет. Когда жизнь будет устраивать нам встречи, мы будем встречаться, как сёстры. Так что старенький дежурный у входа был прав, когда спросил меня: «Вы – родственницы?»
Ядвига немного старше меня. Мне двадцать два, ей – двадцать четыре. И нам обеим кажется, что самое главное и самое лучшее в нашей жизни – уже позади…
…А в тот, второй мой приход, она позвала меня за кулисы. И на спектакль. И наконец-то я увидела её в полёте – девчонку, которая умеет летать…
Ознакомительная версия.