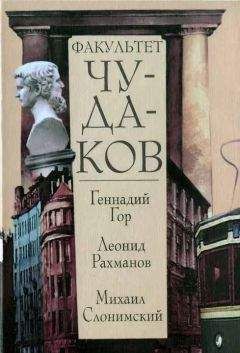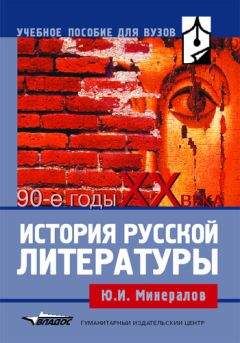Чашкин и Коньков уже начинают опасаться.
— Зачем ты повел ее сюда? Надо было сначала показать достижения, наши поля и наших лошадей. Наши машины.
— Ну, конечно. Это ведь не я, а ты привел ее сюда. Дурак этакий. Теперь она уйдет. Она порвет заявление, непременно уйдет и все из-за тебя.
— Нет, из-за тебя она уйдет.
— Нет, из-за тебя.
Они уже готовы пустить в ход кулаки. И вот они уже дерутся и кричат, позабыв, что их может услышать Катерина.
— Она уйдет из-за тебя, — удар по голове.
— Нет, из-за тебя, — удар по шее и в грудь.
— Да никуда я не уйду, дурни этакие, — разнимает их Катерина.
Они смотрят на нее и видят: она смеется. Ну, конечно, они ее плохо знают. Недостатки — где их нет — способны только усилить ее энергию, усилить ее желание работать.
— Какие мы остолопы, конечно, она останется.
И они смеются. В огороде они смеются над изображением кулака. Петухов, увеличенный в три раза. И руки, приделанные позади к спине, руки в виде крыльев, ветряной мельницы, машут, как руки Петухова, пугая птиц.
— Недостатки, — говорит Катерина, — это ничего, если их можно исправить. А у вас такие недостатки, которые легко будет исправить. А я опасалась, что у вас гладко, как на бумаге. И мне нечего будет делать.
— Ну и женщина, — удивляются Коньков и Чашкин, — ну и баба. Первый раз видим такую женщину.
С рисовальными принадлежностями в руках, неуклюжий и смешной, я догоняю их в саду.
Я рисую их, как могу, мои руки торопятся и не успевают.
Вот — Коньков с разорванной штаниной, с высоким загорелым телом и смеющимся ртом. Вот Чашкин, низенький, с узкими, чуть хитроватыми глазами на совершенно круглом лице. Вот другие ребята. Вот Катерина, обыкновенная женщина, рябая, с узким лицом. Не получается. Похоже на фотографию и потому неверно. И рву рисунок.
Прежде всего они не стоят, а ходят. И ходят хотя все вместе, но каждый по-своему. И мне кажется, что они знают, что я не умею изображать людей. И я чувствую, что они смеются надо мной. И, чтобы окончательно не сесть в галошу, привычной рукой я рисую сад.
Деревья, на которых пышно произрастают ветви, сталкиваясь одна с другой, листья, которые переплетаются, плоды, которые сцепляются, цветы, которые обнимают друг друга. Я отдельно изображаю широкую сосну, вокруг которой крутится плющ. Цветы своими яркими красками напоминают птиц. И тут меня прерывает Катерина.
— Я забыла про птичник, — говорит она, — покажите ваших птиц.
И они идут в птичник. А я за ними, в надежде на то, что мне удастся изобразить не только цветущий луг птичьих перьев, но людей, что труднее всего, людей. И тут я слышу, как разговаривают Чашкин и Коньков.
— А знаешь, чем мы отомстили кулаку Петухову? — спрашивает Чашкин.
— Знаю, — говорит Коньков, — чучелом.
— Нет, не знаешь, — возражает Чашкин, — кулак плюет на чучело. Мы отомстили кулаку тем, что вовлекли в колхоз его батрака, Катерининого мужа, и его батрачку — Катерину.
— А это правильно, — соглашается Коньков. Это правильно.
Три дерева на берегу реки и человек, прицеливающийся из ружья в белку, — так выглядела местность.
Когда из-за горы выбежали рога и олень возвращающегося Шелоткана поравнялся с охотником, тот уже выстрелил. Ни линия падающей с дерева белки, ни короткое, как выстрел, приветствие, не заставило охотника нарушить молчание.
Шелоткан двинулся. Его быстрые сани то поднимались на круглые бугры, то падали. Фигура оленя, точно вырезанного из доски, бежала на двух плоских ногах, по крайней мере так казалось со стороны.
Ночью он приехал. Брат, открывший ему дверь, и мать, поставившая для него чайник, были его братом и матерью, а долгое отсутствие не превратило его в того наблюдателя, каких раньше поставляли города, любующегося на лес и рассматривающего глазами постороннего убогую утварь тунгусской юрты.
Ложась спать, он уже видел себя встающим. Над ним синий круг неровно вырезанного неба; ему ли не знакомо это первобытное окно, служившее одновременно и отверстием для дыма. Вот он надевает свою старую одежду и, взяв топор, идет выбирать место. Здесь он срубит первое дерево…
Когда он подходил к лесу, находившемуся на расстоянии версты от юрты, он услышал за собой крик и обернулся: его догонял брат.
Там они долго стояли, показывая то на лес, то на белую полоску реки, то на оленей, уменьшенных расстоянием, отчего они казались орехами кедра, рассыпанными по белой шкурке, то на юрты соседей, казалось, потому стоявших на одном месте, чтобы их можно было отличить от медленно, но все же передвигавшихся животных. Вот брат поднял два пальца, как бы призывая их в свидетели. Кто знает, не были ли эти два поднятых им пальца символом тех двух религий, христианской и языческой, к которым он принадлежал, но они могли означать также два времени, охоту и отдых, зиму и лето, на которые тунгусы делят свой год, отбросив весну и осень. Шелоткан громко захохотал. Это и был его ответ брату. Тот сердитым удалялся, махнув рукой. Он уходил, медленный и широкий, расставляя ноги, точно на лыжах. И все же он вернулся, чтобы помочь Шелоткану. Сосна, срубленная ими, была тем деревом, под которым они любили играть когда-то, красное, оно пахло смолой, и не оно ли заставило Шелоткана вспомнить первую рыбу, пойманную им в реке, первого зайца, им подстреленного, и, наконец, реку. Где та девушка, у которой имя, как у реки? Он не решился спросить об этом у брата. Тот молчал. Стараясь не отставать, Шелоткан шел по следам его проворного топора. Одинаковые, одинаково одетые, склонясь над двумя разными сторонами одного и того же бревна, они подвигались, машущие топорами, окруженные стаей летающих щепок.
Дятел тайги стучал над ними и долбил дерево, изображая их работу. Вдруг тени машущих всадников показались на опушке. Люди оленей приближались к ним, приветствуя издали. Перетянутые ремнями, они походили на те мешки, которые, перевязанными посредине, свешиваются по обеим сторонам их седел. Одна фраза: «мы с вами», произнесенная на разный лад несколькими голосами, напоминала лозунг МОПРа, она-то и запомнилась Шелоткану.
— Будемте работать, — отвечал он им.
И что же, работа быстро подвигалась — шумная работа, освещаемая вечерними кострами и веселыми рассказами. Длинные трубки и кожаный кисет, переходивший из рук в руки, с вышитым изображением тунгусской охоты, казалось, были выражением того коллективного отдыха, который следует за временами добровольной работы.
Неизменным персонажем всех их рассказов был шаман, живший на другой стороне реки. Высокий хозяин луны, он обладал и снегом, и засухой, и шкурками соболя, распоряжаясь своим телом, как вы — деревом. Рассказывали про него, как он, разведя костер зимы, раздевался, бросая в огонь свою одежду, рубашку и унты, руки и ноги, потом живот, и, оставшись при одной голове с одинокой косой за костлявой спиной, он снова собирал их, вытаскивая прямо из костра, примеривая и надевая, прилаживая руку к руке, ногу к ноге, живот к туловищу так же быстро и ловко, как немногие из вас приладят слетевшее в поле колесо к телеге.
— Враки, — говорили иные, чтобы угодить Шелоткану, и не смеялись, верный признак того, что они боялись и верили.
Не прошло и двух недель, как школа была готова, построенная многими топорами.
— До города далеко, необходимые принадлежности прибудут не скоро, а мы пока что начнем, — говорил Шелоткан.
И только олени маленьких тунгусов показались, он открыл школу, говоря:
— Все готово. Печка вытоплена.
А белая доска и древесный уголь, предназначенный заменять мел, украшали бедность далекой школы.
«Построим социализм» — вот что было написано на стене. Прибывшие ученики, проворные ребята, умели курить, они сумели бы и выследить горностая, поймать осетра или подстрелить убегающего сохатого и снять, не повредив, его дорогие рога и уже не доверяли старикам и богатым. Привязав лошадей, они побежали к источнику, туда, где стоит камень реки. Освещенные белым солнцем зимы, они крались, изгибаясь, шли один за другим, ногами индейца, стараясь попасть в следы идущего впереди. Так играют их сверстники, пионеры городов, еще не виданные здесь. Но вот показался камень реки, каменное изображение быка, вырубленного тайгой. Над ним росло дерево, которое по преданию разговаривает только с теми, кто, придя раз, понравится реке, на языке того, с кем оно заговорит.
Тайга раскрылась, показав им их лица отраженными в круглом зеркале незамерзающего источника. А кругом скалы и снег. Ребята шепчутся и, погрузив руки в источник, горячий, как чай, стремительно вытаскивают их обратно, вместе с песком достав со дна серебряные кружки денег. Их покрасневшие, ошпаренные пальцы — цена денег, пойманных в воде, как рыба. Они возвращались, посмеиваясь над взрослыми, наивная вера которых заставила бросать в источник деньги — благодарность за исцеление. Но достаточно было показаться коршуну, летевшему над ними, маша угрожающими крыльями, чтобы прекратить их насмешки. Кто из них мог поручиться, что это коршун, а не сам шаман, переодетый в одежду птицы.