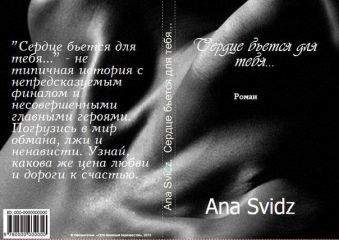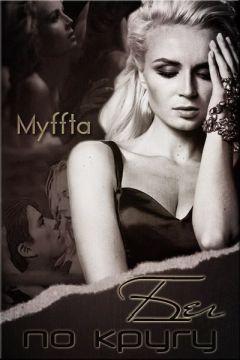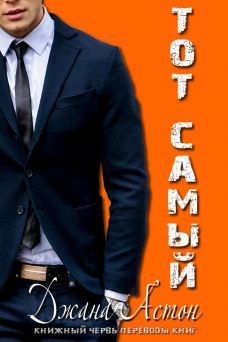Ознакомительная версия.
– Будем надеяться.
– А про Марию Леопольдовну ты забыла?
Нет, не забыла. Мария Леопольдовна, соседка с восьмого этажа, бабушка Антошиного приятеля, она ждёт моих новых книг.
“Вы пишете? – спрашивает она меня каждый раз, когда мы с ней встречаемся в лифте или у подъезда. – Я жду”. Эта милая женщина, ставшая родной за много лет соседства и дружбы наших мальчишек, она даже не подозревает, что значат для меня эти её слова: “Я жду”.
– Вот видишь, – говоришь ты. – Не у каждого писателя есть такие читатели. Разве тебе мало?
Итак. На сегодня, с трудом, но мы всё же пришли к выводу: всё не так уж плохо.
И можно жить дальше.
Нужно.
– А вообще, есть ли смысл в этой жизни?…
– Конечно, есть.
– Почему же я сегодня его не вижу?
– Ты просто устала, милая. Тебе в конце концов надо выспаться. Вот мы сидим, а уже второй час, лучше бы ты спала.
– Как же я могу спать, когда я не знаю ответа на вопрос: есть ли смысл в этой жизни?
– Как так не знаешь? Вчера ещё знала.
– Мне кажется, я и в Бога сегодня не верю… и в бессмертие.
– Ну вот…
Я ухожу на лоджию, ложусь там на диван, завернувшись в плед. Начинает шелестеть дождь… Постепенно шелест переходит в грохот. Отвесная стена дождя обрушивается с тёмного неба на тёмную землю. Я лежу и думаю о нас с тобой…
Ты веришь – незыблемо. Я свою веру – каждый день добываю заново. В этом – твоя сила и моя слабость. Твоя радость и моя печаль. Для тебя твоя жизнь ясна – до конца. Моя же – каждый день – под вопросом. И не то, чтобы во мне не было стержня… Скорее, этот вопрос и является моим стержнем.
– Господи, какой дождь!…
Он – о ней.
Раньше – ласково: “Лысик…”
Теперь – ласково: “Волосатик!”
* * *
– Так быстро!… Не успеваю! Не успеваю – нарадоваться, налюбоваться. Дни так мелькают…
– Мне кажется, если бы каждый день длился двадцать лет, тебе и тогда было мало. Ты бы и тогда плакала: как быстро! как коротко!
* * *
– Не плачь, – говоришь ты. – А то ты так проплачешь всё Ксюшино младенчество. А потом будешь плакать о том, что не успела ему нарадоваться…
* * *
“Вспомни о бабочках-однодневках”, – говорю я себе, когда грусть грозит перерасти в отчаянье: “Никогда, никогда уже она не будет четырёхмесячной! И шестимесячной… Никогда нам не пережить ещё раз наше Первое Лето…”
Вспомни о бабочках-однодневках, говорю я себе. Порадуйся: тебе отпущено больше.
* * *
Ждала своего Иксика и думала:
Разве можно во второй раз радоваться всему так же – как в первый? Ведь всё это у меня уже было: и первая улыбка моего ребёнка, и первое “агу”. И всё, всё, всё… Уже было.
…Теперь знаю – не было.
Не было никогда во вселенной – а теперь есть! – Ксюшина Первая Улыбка.
И какой же ущербной была вселенная без этой улыбки!
Смотреть с тобой на бабочку. На закат. На воробья.
Радоваться – бабочке, закату, воробью…
И – не думать, не писать мысленно писем редактору, который не хочет издавать моих книг, не спорить мысленно и совершенно тщетно с тупым рецензентом…
Не отрывать время и душу – от вечности – на преходящее. От вечного – на суетное.
О Ксюшином взгляде надо сказать особо.
Взгляд у неё совсем не младенческий – упорный и пронзительный. Она могла бы дать объявление в газету: “Вытрезвляю экстренно”.
На улице:
Каждый, кто встречается с Ксюшей взглядом, невольно вздрагивает. И говорит: “ОЙ, СМОТРИТ!…”
А сегодня, 28 августа, совершенно особый день в Ксюшиной жизни. (Пишу уже ночью).
Сегодня ей – Восемь с Половиной Месяцев. Ровно столько, сколько было в день её появления на свет… Сравнялось!
Восемь с половиной Иксик прожил в Космосе, который я носила в себе… И уже столько же – на Земле.
Теперь, отныне, – ТА жизнь, космическая, будет всё более и более заглушаться ЭТОЙ, земной… Немного грустно. Но, я надеюсь, мой таинственный Иксик всегда будет жить в моей чудесной девочке. (НАШ Иксик – в НАШЕЙ девочке!) Иксик – в Ксюнечке. И та космическая ипостась, которой ещё не так давно была моя девочка, будет порой напоминать ей о том времени, когда мы с ней – БЫЛИ ОДНО!…
А ещё сегодня Успенье Богородицы.
И – два месяца со дня Ксюшиного крещения.
А ещё сегодня Ксюнечка впервые ела суп, приготовленный братцем. И оценила его по достоинству.
А ещё сегодня Ксюня сама встала в манеже!
А ещё ей сегодня 250 дней! (А недавно было 5 дней!) Вот сколько событий.
А ещё сегодня папа принёс дочке (и маме, и всему Речвоку) букет японских гладиолусов: крошечных и нежно-ало-оранжевых – таких Ксюшиных! И дочка их тоже оценила по достоинству: весь манеж был усыпан оранжевыми лепестками… А некоторое их количество Ксюша, по-моему, впитала в себя. – Как она впитывает всё!
Не забыть: Ксюнчик в белой праздничной блузе с буфами, с оранжевым гладиолусом во рту!…
– Какое-то постоянное раздвоение души: я и очень-очень счастливая и очень-очень несчастная. Одновременно! Что бы это значило?
– Быть может, любовь?… – улыбаешься ты.
* * *
И опять – уже с другой стороны:
“Уезжать не собираетесь?”
– Зачем?
– Чтобы спасти детей. Мы уезжаем только из-за этого…
– Милая, ты что, действительно, думаешь, что этим мы их спасём? А ты не боишься – что погубим?
– Там нормальный разумный мир. Почему погубим?
– Ну, представь: мы уезжаем. И в одночасье лишаемся всего, что любим. И всех, кого любим. Только представь на минуту, что ты никогда больше не увидишь ни Володю, ни Феликса, ни Александра Яковлевича, ни Колю, ни Юмиха… Ни сестру свою. Ни наших мам. Представила?
– Можно будет ездить в гости…
– Ах, милая! Ну, вот Шпирты уехали, сколько лет уже? И часто ли мы ездим друг к другу в гости? И часто ли мы пишем друг другу?… Всё! Нити рвутся, это неизбежно. И напишем ли мы там свои книги? Когда все силы надо будет положить на то, чтобы зацепиться, прижиться… Тут уж, боюсь, будет не до книг. И скажет ли нам спасибо Антон, оказавшись где-нибудь в прекрасном Лос-Анжелесе, к примеру, в прекрасном – но совершенно, абсолютно чужом, в чужой языковой среде, среди чужих лиц, где ни одного знакомого, выйдя на улицу, не встретишь… И будешь ли ты там спокойнее за него?
– Не знаю…
– А я знаю: там ты будешь сходить с ума ещё больше. Все-таки здесь, за столько лет, мы создали СВОЙ МИР. Это и Антошины деревья, и наши друзья…
– Всё. Уговорил. Не едем. Сегодня.
Они сладко посапывают во сне, наши любимые, наши дорогие дети… Господи, не оставляй нас в наших сомнениях! Научи: как поступить, чтобы исполнилось предначертанное нам?… Не ринуться бы сгоряча, с отчаянья наперекор судьбе. Но и не плыть же по течению – куда вынесет?…
– Надо прислушиваться, – говоришь ты. – Я уверен, ответ всегда посылается. Но надо его услышать.
– Да ну их! – говоришь ты. – Мы-то живём нашей жизнью. Нашей настоящей жизнью.
– И всё-таки приятно, – говоришь ты, – присутствовать при издыхании ТАКОГО ЧУДОВИЩА!
– Так оно может издыхать ещё сто лет!
– Ну, не скажи! На сто лет его не хватит. Может, и на три года не хватит…
– …и, издыхая, бить хвостом так, что… сколько ещё хребтов будет сломано? сколько судеб покалечено?…
Спят, набегавшись, нагулявшись, насмеявшись, наплакавшись за день, наши детки. Наши хрупкие и нежные. Наши совершенно не от мира сего детки.
Господи, что Ты уготовил для них в этой жизни?…
Сначала чемодан стоял под её кроваткой, был набит вещичками и очень Ксюшу однажды напугал, клацнув замками. Она стала его бояться и плакать, когда он возникал в поле её зрения. Вещички, извлекаемые из него, тоже пугали.
И тогда я набила чемодан игрушками. И Ксюша медленно-медленно привыкала не бояться.
…А потом полюбила чемодан так горячо, что захотела однажды в него влезть. И я поставила чемодан в манеж. И Ксюша поселилась в нём.
Стоит посреди комнаты манеж – комнатка в комнате. Стоит в манеже чемоданчик – комнатка в комнате в комнате. Сидит в чемодане дюймовочка – наша весёлая девочка в окружении любимых игрушек. Любимых много, но всё очень быстро меняется.
Уже месяц Ксюня живёт в чемоданчике: учится влезать в него, вылезать, вставать в нём, втаскивать в него игрушки и выбрасывать. И ещё – играть на замках!
Ознакомительная версия.