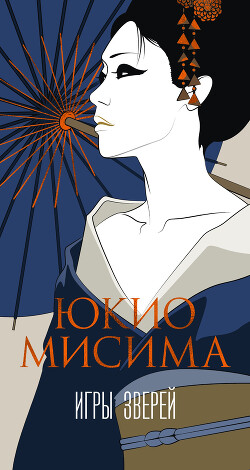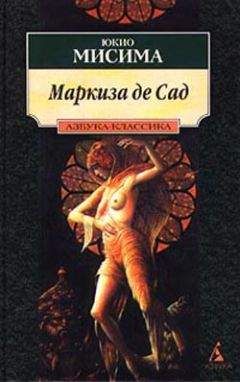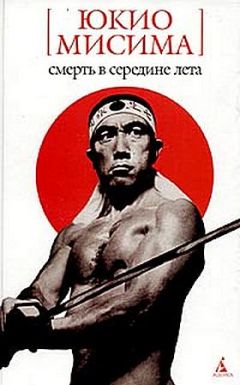территории играла толпа детей; сам храм, похоже, несколько раз перестраивали, но он все еще сохранял величие старой архитектуры, характерное для периода Оэй [29]. Я спросил, как найти настоятеля. Так я и познакомился с Какудзином.
За дни, проведенные в Иро, характер настоятеля произвел на меня глубокое впечатление, и даже за это короткое время между нами возникла особая душевная близость. Настоятель, без сомнения, радовался знакомству со мной, ведь мы встретились, как раз когда он сокрушался, что местная молодежь с каждым днем все дальше отходит от старых обычаев и традиций. Вскоре после нашей первой встречи Какудзин пожаловался мне, что «Песня о священной лодке», передававшаяся из поколения в поколение и сохраненная в деревенском святилище, доживает последние годы. Он сказал, что позовет последнего старика, который может ее исполнять, и попросит спеть специально для меня. Радости моей не было предела.
Старый рыбак, о котором говорил настоятель, был воплощением простоты; он предупредил, что со здоровьем у него стало совсем плохо, голос звучит неважно, так что, скорей всего, петь он будет в последний раз.
Хотя ритуал священной лодки в Иро давно сошел на нет, еще несколько десятилетий назад каждый год третьего ноября в деревне устраивали праздник. Двенадцативесельную прогулочную лодку «Мёдзин-мару» украшали со всем великолепием, молодые парни садились на весла и целый день плавали по заливу. В центре лодки ставили павильон площадью около пяти квадратных метров, в котором пятеро жителей деревни распевали священные песни, а когда выступление заканчивалось, танцоры в красных кимоно исполняли танец обезьян – вероятно, одну из разновидностей санбасо. По всей видимости, это было похоже на представления санба саругаку [30], которые до сих пор можно увидеть на севере Японии.
Всего в этом обряде двенадцать песен, и первая из них – как раз «Песня о священной лодке». Полное исполнение на той самой лодке занимало два дня. Однако мне довелось услышать только песню о лодке, которую также называют «Песней богов».
Прежде чем старик начал исполнение, мне удалось скопировать текст, записанный на листе старой бумаги для каллиграфии.
Начинается песня так:
О! Какое счастье!
Как радостен и светел праздник!
Какое счастье!
Типичное начало, ничего особо примечательного, такое можно услышать в разных регионах.
О! Счастливый день! В снегах ранней весны
Алые бутоны, что подобны нитям, вплетенным в доспехи,
Превращаются в городе в цветущую сакуру.
Цветы гортензии струятся водопадом по реке Араси летом.
Приходит осень, и река Нисики прокладывает путь
Сквозь торжественный багрянец кленов.
Зимою падет снег, и небеса чисты…
И дальше в том же духе, с описаниями четырех времен года. Это напомнило мне фрагмент «На берегу» из антологии священных церемониальных песен. Там есть следующие строки:
Как хороши долины, где весною расцветает слива.
Благоухают окрестные деревни.
Летняя прохлада в Огигаяцу [31].
Долина дневных лилий осенью.
Зимою красиво снег лежит на склоне Камэгаяцу [32],
Где не был так давно.
Праздничный сюжет «На берегу» включался также в представления ковакамай [33]. Тексты в ковакамай заимствованы из антологии церемониальных песен, в приведенных выше строках прославляется Камакура.
И дальше:
Теперь, когда я отомстил врагу и возвеличил свое имя, можно сложить меч, лук и стрелы.
Эта строка из «Песни о священной лодке» напомнила мне отрывок «Праздник мести» из представления кумиодори [34]. Однако тема мести воинственного самурая быстро растворяется в мирном речитативе, прославляющем долголетие.
Старик еще раз извинился за то, что сегодня не в голосе, и затянул первые строки «Песни о священной лодке». Голос его, неожиданно красивый, лился легко и свободно. И хотя в нем звучали меланхолические нотки, он все же сохранил искрящуюся чистоту безмятежного моря.
* * *
Я был в восторге от собранных материалов, касающихся «Песни о священной лодке», и мне захотелось задержаться в этой деревне, чтобы раскопать еще что-нибудь из старинного местного фольклора. Я часто бывал в храме Тайсэндзи и, беседуя с настоятелем, искал в его словах подсказки, которые могли бы привести к новым открытиям.
Был вечер пятого дня моего пребывания в деревне. Какудзин угощал меня сакэ в храме и во время беседы о том о сем рассказал одну историю, которая случилась в деревне за пару лет до того. Эта история так меня привлекла, что я, сгорая от любопытства, на время отложил в сторону научные интересы.
Некий молодой человек вместе с замужней женщиной задушил ее супруга. Супруг страдал от афазии, возникшей из-за травмы, которую двумя годами ранее нанес ему тот же молодой человек.
Я попросил настоятеля рассказать все, что ему известно об этой трагедии. К моему удивлению, Какудзин в равной степени сочувствовал каждому из троих персонажей; меня же особенно заинтересовала жена по имени Юко.
Несмотря на то что настоятель подробно описал ее мне, внешность и характер этой женщины все равно скрывал покров неизвестности. Единственное, что я мог вообразить, – ее тонкие губы, всегда подкрашенные яркой помадой. Этот размытый, трудноуловимый образ был для меня подобен прекрасной и таинственной старинной фольклорной находке, до сей поры похороненной. Каким ценным научным открытием она могла бы стать, если бы только я мог отыскать ее сейчас, когда она была на грани исчезновения и хранилась в строжайшем секрете.
Наконец настоятель предложил мне взглянуть на сохранившуюся у него единственную фотографию этих людей. Пока он ходил за шкатулкой, в которой лежал снимок, меня переполняли одновременно надежда и тревога. Исследователи вроде меня часто сталкиваются с разочарованием в поездках. Одно дело – устная передача традиций, особенностей языка и мышления, где сразу можно определить ценность материала, и совсем другое – когда изучаешь какой-нибудь древний документ, о котором слышал самые восторженные отзывы, и вдруг обнаруживаешь, что ничего особенного в нем нет.
Я боялся, что фотография Юко не оправдает моих ожиданий. К счастью, мои опасения оказались напрасными.
Снимок немного передержали, а три фигуры были в белой одежде, что еще больше подчеркивало его яркость. Тем не менее изображение получилось четким, а безмятежная дружеская близость между людьми на фото бросалась в глаза и создавала странное впечатление. В центре кадра стояла Юко в белом платье; она улыбалась и держала в руке сложенный зонтик. На ее веселом, с правильными чертами лице лежал отпечаток легкой изысканной грусти; губы, хоть и тонкие, отличались красотой. Я обрадовался, что реальность оправдала мои надежды, – описывая Юко,