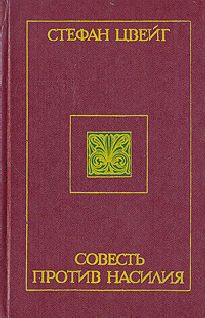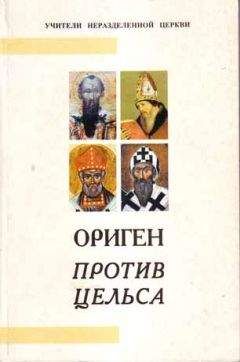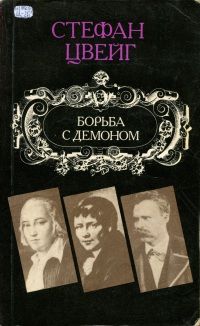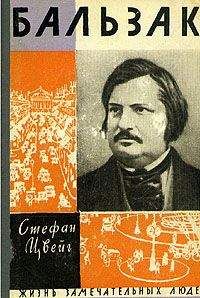Но Кальвин только этого и ждал. Теперь он может, наконец, осуществить давно задуманный государственный переворот, который обеспечит ему всю полноту власти. Тотчас же мелкая уличная потасовка раздувается до "страшного заговора", который срывается только "божьей милостью", - всегда в таких случаях самое отвратительное - это лживый облик и ханжески воздетый к небу взгляд. Молниеносно арестовывают руководителей республиканской партии, которые вообще не имели никакого отношения к этой потасовке, происходившей в пригороде, их подвергают таким жестоким пыткам, что они начинают признаваться во всем, что так необходимо диктатору для достижения своих целей: что якобы была запланирована Варфоломеевская ночь, что Кальвин и его сторонники подлежали физическому уничтожению, а в город должны были войти иностранные войска. На основании этих, вырванных путем самых чудовищных пыток "признаний" о запланированном "восстании" и состряпанного дела о "государственной измене" палач может наконец-то приступить к своему делу. Все, кто оказывал Кальвину хотя бы малейшее сопротивление и кто не смог вовремя ускользнуть из Женевы, были казнены. Всего одна ночь - и в Женеве не остается никакой другой партии, кроме кальвинистской.
После столь полной победы, после такого радикального устранения своих последних противников в Женеве Кальвин мог бы быть, в сущности, спокоен, а посему великодушен. Но нам известно еще со времен Фукидида, Ксенофонта и Плутарха, что всегда и везде, победив, олигархи становятся лишь нетерпимее. Трагедия всех деспотов состоит в том, что они испытывают страх перед свободным человеком даже тогда, когда зажали ему рот и сделали его политически бессильным. Им не достаточно того, что он молчит и будет молчать. Уже то, что он не говорит "да", не служит им, не гнет перед ними спину, не рвется в толпу льстецов и прислужников, превращает его существование, теперешнее и дальнейшее, в повод для их возмущения. И именно потому, что со времен жестокого государственного переворота у Кальвина не осталось ни единого политического противника, кроме нравственного, он с удесятеренной ожесточенностью направляет всю свою воинственность против этого одного - Себастьяна Кастеллио.
Единственная трудность, однако, заключалась в том, чтобы заставить миролюбивого ученого нарушить свое молчание. Ибо Кастеллио устал от открытой борьбы. Гуманистические натуры, натуры типа Эразма Роттердамского, не могут долго оставаться борцами. Они исповедуют свою истину, но, однажды уже огласив свою точку зрения, считают излишним всякий раз пытаться средствами пропаганды убедить мир в том, что она является единственно правильной и законной. Кастеллио сказал свое слово в деле Сервета, он, несмотря на все опасности, взял на себя защиту гонимого и решительнее, чем кто-либо другой в его время, выступил против террора, проявившегося в насилии над совестью. Но время работало против его свободного слова; Кастеллио видит, что на какое-то время победу одержало насилие. И потому принимает решение тихо дожидаться случая, когда можно будет вновь начать решительную борьбу терпимости против нетерпимости. Глубоко разочарованный, но не изменивший своему убеждению, он возвращается к своей работе. Наконец его пригласили в университет преподавателем, наконец-то приближается к завершению труд, которому он посвятил всю свою жизнь - двойной перевод Библии. В 1555-1556 годах, после того как из его рук было выбито оружие слово, Кастеллио-полемист совершенно умолкает.
Но Кальвин и женевцы узнают через шпионов, что Кастеллио по-прежнему высказывает в тесном университетском кругу свои гуманные взгляды: лишенный возможности писать, он не позволил, однако, зажать себе рот; и крестоносцы нетерпимости с горечью замечают, что столь ненавистное требование терпимости, неопровержимые аргументы Кастеллио против учения о предопределении находят все более широкий отклик у студентов. Высоконравственный человек оказывает влияние уже просто своим существованием, ибо создает вокруг себя атмосферу убежденности, и это внутреннее воздействие, пусть ограниченное внешне узким кругом, незаметно распространяется, ширится, оно неудержимо, как волны прибоя. Но поскольку Кастеллио, нежелающий покориться, остается опасным человеком, его влияние должно быть вовремя подорвано. С большой хитростью ему расставляют сети, стремясь вновь вовлечь его в борьбу против ереси, а один из его университетских коллег охотно соглашается оказать услугу в качестве agent provocateur 1. В довольно дружеском послании он обращается к Кастеллио с просьбой (словно проявляя особый интерес к некоему теоретическому вопросу) растолковать ему свои взгляды на учение о предопределении. Кастеллио выражает готовность выступить публично, но уже после первых его слов вскакивает кто-то из слушателей и обвиняет его в ереси. Кастеллио сразу же разгадал тайный умысел. Вместо того чтобы продолжать защищать свой тезис и таким образом попасть в ловушку, что дало бы достаточно материала для обвинения, он прерывает дискуссию, а его коллеги по университету воспрепятствуют дальнейшим выступлениям против него. Однако Женева так легко не сдается. После провала этого коварного замысла срочно была изменена методика, и, поскольку Кастеллио отказался от дискуссии, предпринимается попытка досадить ему сплетнями и памфлетами. Осмеивается сделанный им перевод Библии, на него взваливают ответственность за анонимные пасквили и брошюры, по всему свету распространяется самая злобная клевета; словно по сигналу начинается всесторонняя атака на Кастеллио.
1 провокатора (фр.).
Но именно подобное рвение и показало всем непредубежденным людям, что у этого крупного и поистине благочестивого ученого хотят отнять жизнь, лишив его прежде свободы слова. Коварное преследование помогает преследуемому повсюду находить друзей, и на сторону Кастеллио вдруг демонстративно становится родоначальник немецкой Реформации Меланхтон. Ему претят, как когда-то Эразму, любые непорядочные действия тех, кто видит смысл жизни не в примирении, а в ссорах, и он неожиданно посылает письмо Себастьяну Кастеллио. "До сих пор,- говорится в его письме,- я не писал тебе, поскольку из-за занятий, объем и неприятный характер которых угнетает, у меня остается мало времени для такой переписки, которая мне самому доставляла бы удовольствие. Еще меня удерживало то, что мной овладевает чувство глубочайшей печали при виде ужасных разногласий между людьми, считающими себя друзьями мудрости и добродетели. Однако я всегда ценил тебя за твою манеру письма... И я хочу, чтобы это послание стало для тебя свидетельством моего одобрения и доказательством искренней симпатии. Пусть соединят нас узы вечной дружбы.
Твои сетования не только на расхождение во мнениях, но и на жестокую ненависть, с которой кое-кто преследует друзей истины, только усиливает боль, которую я сам постоянно ощущаю. В одном из мифов говорится, что из крови титанов возникли гиганты. Так из семян, брошенных монахами, взошли новые посевы - софисты, - которые пытаются верховодить при дворах, в семьях и в народе и считают, что ученые мешают им в этом. Но господь бог сумеет защитить остатки своей паствы.
Так, собрав всю свою мудрость, мы должны терпеть то, что не можем изменить. Для меня утоление моей боли - старость. Я надеюсь вскоре предстать перед господом, оказаться подальше от свирепых ураганов, которые так неистово сотрясают здесь церковь. Если я буду жив, я хочу о многом поговорить с тобой. Будь здоров".
Это послание было задумано как охранная грамота для Кастеллио, копии которой сразу же начинают переходить из рук в руки, служа предостережением для Кальвина и призывая его прекратить, наконец, нелепое преследование великого ученого. И действительно, похвальное слово Меланхтона оказывает очень сильное влияние на весь гуманистический мир; даже ближайшие друзья Кальвина настаивают теперь на мире. Крупный ученый Буден так писал в Женеву: "Теперь ты можешь видеть, сколь резко осуждает Меланхтон жестокость, с которой ты преследуешь этого человека, и как далек он в то же время от одобрения всех твоих парадоксов. Есть ли действительно смысл в том, чтобы и впредь обращаться с Кастеллио как со вторым дьяволом и одновременно почитать Меланхтона как ангела?"
Но какая великая ошибка полагать, что можно вразумить или унять фанатика! Парадоксальным образом - а может, и по логике вещей - защитное письмо Меланхтона оказало на Кальвина как раз обратное воздействие. Ибо тот факт, что его противнику даже приносят дань уважения, лишь усиливает в нем; ненависть, Кальвин слишком хорошо знает, что для его воинствующей диктатуры гораздо более опасны эти духовные пацифисты, нежели Рим, Лойола и его иезуиты. У них догма противостоит догме, слово - слову, учение - учению, здесь же, в выдвинутом Кастеллио требовании свободы, под сомнение поставлены, считает Кальвин, основополагающие принципы его устремлений и деяний, идея единого авторитета, вся суть ортодоксальности, и в любой войне пацифист в своих рядах всегда опаснее самого воинственного противника. Именно потому, что охранная грамота Меланхтона подняла авторитет Кастеллио в мире, у Кальвина нет теперь никакой другой цели, кроме как посрамить его имя. С этой поры, собственно, и начинается борьба - борьба не на жизнь, а на смерть.