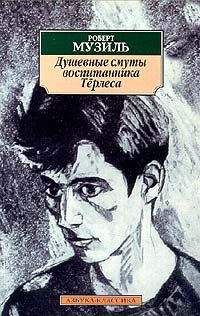Когда оглядываешься назад, то тридцать лет кажутся одним годом; вся суть замысла, связь между замыслом и исполнением - фрагмент, объем, том твердое зерно во времени, размытом забвением. Книга, которую я сейчас пишу, восходит своими истоками почти - а может, и полностью - к тому времени, когда я писал свою первую книгу. Она должна была стать второй. Но тогда у меня было четкое ощущение, что я еще не готов дописать ее до конца. Дважды предпринимавшиеся мною попытки написать историю трех персонажей, в которых ясно угадывались Вальтер, Кларисса и Ульрих, после нескольких сотен страниц окончились ничем. Меня так и тянуло писать, но я не знал, зачем я должен это делать. И после того, как я уже опубликовал "Душевные смуты воспитанника Терлеса", мне удалась книга, читая гранки которой всего два года назад, я испытал истинное наслаждение от точности и живости языка, каким она написана, хотя с трудом удерживался от соблазна и в ней подправить множество сырах мест. В ту пору - я вновь возвращаюсь ко времени, когда я обдумывал (начал обдумывать) предполагаемый второй том - должна была бы возникнуть и новелла "Тонка", которую я в сборнике "Три женщины" немного обкорнал. Прежде чем я написал вторую книгу (обе новеллы "Соединения"), я уже начал работать над третьей - пьесой "Мечтатели". Еще раньше, чем я ее опубликовал, "Три женщины" по материалу были близки к завершению. Я отнюдь не считаю, что такое забегание вперед, такой ранний выбор материала необычен. Наоборот, он мог бы даже быть правилом. Что до меня, то я должен сказать, что это был вовсе не выбор материала, или все же выбор, но в каком-то необычном смысле.
Могу привести два примера. Незадолго до того, как я начал писать "Душевные смуты воспитанника Терлеса", примерно годом раньше, я "подарил" этот материал, то есть все, что в этом небольшом романе является "средой", "реалиями" и "реальностью". В ту пору я свел знакомство с двумя талантливыми сочинителями натуралистического направления, ныне забытыми, поскольку оба скончались в весьма юном возрасте (Фр. Ш. и Ойг. Ш.). Им я рассказал все, чему был свидетелем (впрочем, главные события происходили иначе, чем я их позже изобразил), и предложил им делать с этим материалом все, что им вздумается. Сам я в то время мучился сомнениями; я не знал, чего хочу, знал лишь, чего не хочу, а это "не хочу" включало приблизительно все, что в то время считалось долгом писателя. И когда год спустя я сам вернулся к этому материалу, то буквально лишь от скуки. Мне было двадцать два года, несмотря на молодость я уже стал инженером и испытывал отвращение к своей профессии. Каждый вечер, примерно в половине девятого, ко мне приходила подружка, а с работы я возвращался уже в шесть часов. Штутгарт, где все это происходило, был мне чужд и недружествен, я хотел бросить свою профессию и заняться изучением философии (что вскоре и сделал); я пренебрегал служебными обязанностями, штудировал философские труды и в рабочее время, и вечерами, а придя в полное изнеможение, начинал томиться от скуки. Вот как получилось, что я взялся за перо, а под рукой оказался почти готовый материал к роману "Душевные смуты воспитанника Терлеса". Этот роман и его, как тогда сочли, аморальная трактовка темы, вызвали известный интерес, и я приобрел репутацию "занимательного рассказчика". Разумеется, писателю нужно уметь строить сюжет, если уж претендуешь на признание за тобой права не ставить его своей целью, а я и впрямь сносно с этим справляюсь. Но и поныне сюжет в моих книгах играет для меня второстепенную роль. И уже в ту пору главным было нечто другое.
Второй пример, где это проявляется прямо-таки анекдотическим образом, это мое главное произведение "Мечтатели", которое несчастья преследовали на каждом шагу и которое я и ныне все еще с некоторой опаской именую пьесой. О ней я ниже еще скажу. Своеобразие этой пьесы, которое я уже здесь хочу подчеркнуть, состоит в том, что она настолько несценична, что мне следовало бы вообще не предназначать ее для театра. Но в то же время она казалась столь непохожей на обычный литературный вымысел, что я понял: вероятно, в театре тоже спектакль - это нечто, не слишком тесно связанное с первоначальным замыслом: в этой пьесе чуть ли не каждое слово стояло там, где и теперь стоит, несмотря на то, что она претерпела три редакции, имела три различных сюжета, три сценария и три круга действующих лиц, короче говоря: с точки зрения театра - три совершенно разных варианта в сущности одной и той же пьесы, прежде чем я остановился на одном. Третий пример "Созревание любви".
Подведем теперь предварительные итоги; что пока выяснилось? Этот Р. М., о котором я говорю, словно не о себе самом, - все во мне противилось такому откровенному разговору о себе, хотя я вынужден был это сделать, - этот писатель, как теперь выяснилось, весьма безразличен к своему материалу. Этот вывод показался мне интересным. Есть писатели, которых их материал просто завораживает. Они чувствуют: могу писать только об этом и ни о чем другом. У них это - как любовь с первого взгляда. Отношение P.M. к своему материалу выражается одним словом: нерешительность. Он намечает несколько тем одновременно и держит их при себе до тех пор, пока не минуют дни первой влюбленности или даже если этих дней вообще не было. Он произвольно переставляет отдельные эпизоды этих материалов. Некоторые из них, перемещаясь, вообще выпадают и не появляются в тексте книг. Очевидно, автор считает внешнюю канву событий более или менее несущественной. А что это означает? Здесь мы уже подходим к вопросу: как соотносятся в литературе внешнее и внутреннее? Что они образуют неразрывное единство - азбучная истина, но куда менее известно и даже отчасти совсем неизвестно: как именно это происходит. Следовательно, мы будем в этом вопросе особенно осмотрительны и прежде всего должны, вероятно, определить несколько различных видов этого синтеза. После того, что я рассказал, на первый взгляд кажется, что этот синтез у меня чрезвычайно слаб; а на самом деле все обстоит как раз наоборот, насколько я могу судить. Если воспользоваться моей биографией, дабы обрести путеводную нить в этой безграничной проблеме, то мне придется признать, что в самом начале, то есть когда я писал "Воспитанника", этой проблемы для меня вообще не существовало, но что потом она совершенно неожиданно возникла предо мной и овладела всеми моими помыслами. Я еще ясно помню принцип, которым я руководствовался, работая над рукописью "Воспитанника": излагать все как можно короче, не прибегать к образным выражениям, если они не содействуют пониманию, опускать отдельные мысли (хотя они были мне очень важны), если они не вписываются с легкостью в общее развитие действия. В сущности, это принцип прямой линии, как кратчайшего расстояния между двумя точками. Следовательно, хоть я и не придавал значения сюжету, но инстинктивно представлял ему большие права. Я подчинялся импровизированному - и как показал успех - правильному представлению о том, какую роль играет сюжет, и удовлетворился тем, что все же "вплел" в текст некоторые мысли. Я тогда был еще не очень начитан и никому не подражал. Гауптман, который в то время был уже весьма популярен, обладал, на мой взгляд, слишком незначительным интеллектом; достоинства Ибсена я тогда недооценивал, как это делают и сегодня, а его прославленное глубокомыслие казалось мне смехотворным заблуждением. Гамсун, предававшийся в своих ранних произведениях многословным умствованиям, просто вставлял их в текст, как в старых операх вставляли в действие отдельные арии; весьма похоже поступал и Д'Аннунцио. Стендаля я не понимал, а Флобера не знал. Но Достоевского я знал, и поскольку горячо любил (не ощущая, впрочем, потребности познакомиться с ним более полно: странно все-таки устроены молодые, а может, и вообще все люди!), я могу нынче по моему отношению к Достоевскому наиболее четко выявить свое тогдашнее состояние и достигнутый уровень: его мысли казались мне излишне туманными! Я считал, что его подход к проблемам недостаточно однозначен! Я слишком мало извлекал для себя! Итак, если я, правильно оценивая мои скромные силы, задавал себе весьма узкую цель, то намерения мои каким-то образом выходили далеко за ее пределы, и лишь теперь, записывая эти мысли, я постигаю причину странного следующего шага, предпринятого мною впоследствии.
Надеюсь, этот ход рассуждений будет правильно понят. Честолюбивый юноша всегда с большей или меньшей долей наивности сводит счеты со своими "предшественниками" (с той поры я тоже уже встречал много юношей, делавших то же самое со мной), и это - знак того, в каком направлении ведет самого юношу его непредвзятость. Свою непредвзятость я собираюсь охарактеризовать, описав вышеупомянутый следующий шаг. Итак, меня уже занимали мысли, связанные с "Мечтателями" и "Человеком без свойств", когда я получил предложение написать небольшую новеллу для одного литературного журнала. Я довольно быстро справился с этой задачей, в результате получился "Зачарованный дом", напечатанный в "Гиперионе" (как и почему получилась именно эта новелла, имеет свое объяснение и я, вероятно, еще об этом скажу). Потом я получил еще одно предложение и по какой-то причине решил быстро написать новеллу на ту же тему - тему ревности (причем ревность на сексуальной почве была лишь нача-лом, толчком, а занимала меня главным образом неуверенность человека в своей значимости или, возможно, также подлинная сущность самого себя и близкого ему человека). Более того, я даже намеревался отнестись к этой новелле как к литературному экзерсису, а также как к способу самому немного отдохнуть и умственно расслабиться. Я собирался написать ее в манере, близкой к Мопассану, которого едва знал, но о котором составил себе представление, как об авторе "легковесном" и "циничном". Но для того, кто прочел "Созревание любви", вероятно, покажется абсолютно непостижимым противоречие между этим намерением и его осуществлением. Противоречие это столь же велико, как несоответствие намерения быстренько сочинить небольшую новеллу и получившемуся в результате тексту: я работал над двумя новеллами два с половиной года, можно сказать, круглосуточно. Из-за них я едва не тронулся рассудком, ибо тратить столько сил на выполнение не столь уж важной задачи похоже на мономанию, - смысл новеллы можно, конечно, углубить, но величина ее воздействия все же незначительна. И я всегда это знал, но не хотел отступать. Так что тут имеет место либо мое личное сумасбродство, либо эпизод этот имеет значение, выходящее за пределы одной личности.