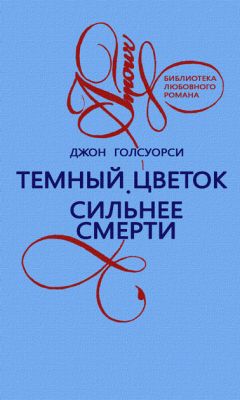Последовало молчание, нарушаемое лишь скрипом* гусиного пера, которым писал мистер Стоун.
Закончив писать, он снова зашагал по комнате и вдруг, увидев перед собой дочь, застыл на месте. Робко коснувшись ее плеча, он сказал:
- Кажется, я разговаривал с тобой, дорогая; где мы остановились?
Бианка потерлась щекой о его руку.
- По-моему, в воздухе.
- Да-да, я вспомнил. Ты не давай мне удаляться от темы.
- Хорошо, дорогой.
- Ягнята напоминают мне иногда молодую девушку, которая приходит ко мне писать под диктовку. Я заставляю ее прыгать перед чаем, чтобы наладить правильное кровообращение. А сам я делаю вот это упражнение. - Он стал в двенадцати дюймах от стены и, прислонившись к ней спиною, медленно поднялся на носках. - Ты знаешь это упражнение? Превосходно укрепляет икры и поясницу.
С этими словами мистер Стоун отделился от стены, и вместе с ним от стены отделилась известка - она осталась в виде большой квадратной заплаты на спине его косматого пиджака. Мистер Стоун снова начал мерить шагами комнату.
- Я видел, как овцы весной подражают своими ягнятам, - они тоже поднимают все четыре ноги сразу, когда прыгают. - Он остановился и замолчал: очевидно, его осенила какая-то мысль. - Если жизнь перестает быть вечной весной, она теряет всякую ценность, - лучше умереть и начать сызнова. Жизнь - это дерево, надевающее новые зеленые одежды, это молодой месяц, восходящий на небе... Нет, это неверно, мы не видим восходящего молодого месяца; жизнь - это луна, спускающаяся по небосводу, самая юная как раз тогда, когда близится наша смерть...
Бианка резко воскликнула:
- Перестань, отец, это все неверно! Для меня жизнь - это осень.
Глаза мистера Стоуна стали совсем голубыми.
- Это мерзкая ересь, - сказал он, запинаясь. - Я не желаю этого слышать. Жизнь - это песня кукушки, это склоны холмов, где раскрываются лист за листом, это ветер-все это я чувствую в себе каждый день!
Он дрожал, как те листы на ветру, о которых говорил, и Бианка поспешно подошла " нему, протянув вперед руки. Но вот губы его зашевелились, и она услышала шепот:
- Я ослабел. Я вскипячу себе молока. Я должен быть бодр, когда она придет.
При этих словах Бианке почудилось, что сердце ее превратилось в кусочек льда.
Всегда и всюду эта девушка! Больше уже не пытаясь завладеть вниманием отца, Бианка ушла. Проходя через сад, она увидела, что отец стоит у окна и держит в руке чашку с молоком, от которой поднимается пар.
ГЛАВА XXVI
ТРЕТЬЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО НА ХАУНД-СТРИТ
Подобно воде, человеческий характер находит свой уровень: природа, имеющая обыкновение приспосабливать людей к их окружению, сделала из молодого Мартина Стоуна "оздоровителя", как назвал его Стивн. Ничего другого ей, собственно, и не оставалось с ним делать.
Этот молодой человек появился на общественной арене в тот момент, когда концепция существования как земной жизни с поправкой на жизнь загробную грозила рухнуть, а концепция мира как заповедника высших классов терпела серьезный урон.
Потеряв отца и мать еще в раннем детстве, он до четырнадцати лет воспитывался в дом" мистера Стоуна и рано привык мыслить самостоятельно. Это не располагало к нему людей и еще больше укрепило в нем переданную ему дедом способность видеть перед собой одну цель и к ней одной стремиться. Отвращение к зрелищу и запахам страданий - он еще ребенком не мог видеть, как убивают муху, и не мог видеть кролика в западне - вошло в некие рамки за те годы, когда он готовился стать врачом. Физический ужас перед болью и уродством был теперь дисциплинирован, духовное неприятие их переросло в определенное мировоззрение. Тот хаос, что окружает всех молодых людей, живущих в больших городах и хоть сколько-нибудь мыслящих, заставил Мартина постепенно отказаться от всяких абстрактных рассуждений, но особый душевный пыл, унаследованный, надо полагать, от мистера Стоуна, понуждал его отдаться чему-либо целиком. Поэтому-то он и посвятил себя врачеванию людей. Проживая на Юстон-Род, чтобы теснее соприкасаться с жизнью, он сам весьма нуждался в том здоровье, которому отдавал все силы.
К концу того дня, когда Хьюз совершил свое нападение, у Мартина оказались три свободных от больницы часа. Он окунул лицо и голову в холодную воду, крепко растер их мохнатым полотенцем, надел котелок, взял трость и, сев в поезд подземки, отправился в Кенсингтон.
Храня обычный для него невозмутимый и властный вид, он вошел в дом к тетке и спросил, дома ли Тайми. Верный своей определенной, хотя, может быть, и несколько примитивной теории, что Стивя, Сесилия и все им подобные - лишь дилетанты, он никогда не искал их общества, хотя нередко, дожидаясь Тайми, заходил в гостиную Сесилии и окидывал собранные ею изящные вещицы саркастическим взглядом или разваливался в каком-нибудь из ее роскошных кресел, закидывал одну на другую свои длинные ноги и сидел, уставившись в потолок.
Вскоре появилась Тайми. На ней была голубая блузка из материи, которую Сесилия купила на благотворительном базаре в пользу населения балканских стран, и юбка из лилового твида, вытканного обедневшими ирландками дворянского происхождения; в руке она держала незапечатанный конверт, на котором рукою Сесилии был написан адрес миссис Таллентс-Смолпис.
- Здравствуй! - сказала Тайми.
Мартин ответил ей взглядом, охватившим ее всю разом, с головы до ног.
- Надевай шляпу. Времени у меня немного. Это вот голубое на тебе что-то новое...
- Чистый лен. Мама купила.
- Ничего, неплохо. Ну, поторопись.
Тайми вскинула подбородок и этим ленивым движением! открыла во всей ее прелести круглую, цвета слоновой кости шею.
- Я сегодня какая-то вялая, - сказала Тайми. - И, кроме того, к обеду я должна быть дома.
- К обеду!
Тайми быстро повернулась и пошла к двери.
- Ну хорошо, хорошо, иду. - И она побежала наверх.
Когда они оплатили почтовый перевод на десять шиллингов, сунули квитанцию в конверт, адресованный миссис Таллентс-Смолпис, и уже миновали бесчисленные двери магазина Роза и Торна, Мартин сказал:
- Я хочу проверить, что предпринял наш дражайший дилетант в отношении ребенка. Если он еще не забрал оттуда девицу, там у них, наверно, черт знает что делается.
Лицо у Тайми сразу изменилось.
- Ты только помии, Мартин, - я ни в коем случае не хочу к ним заходить. К чему это, когда нас ждет масса всяких других дел.
- Всегда какие угодно "другие дела", только бы не то, которое нужно делать сейчас.
- Этот случай не имеет ко мне никакого отношения. Ты ужасно несправедлив ко мне, Мартин, мне эти люди неприятны.
- Эх ты, дилетантка!
Тайми вспыхнула.
- Слушай, Мартин, - проговорила она с достоинством. - Мне безразлично, как ты называешь меня, но я не позволю, чтобы называли дилетантом дядю Хилери.
- А кто же он, по-твоему?
- Я его люблю.
- Вполне убедительный аргумент.
- Да!
Мартин не ответил. Он поглядывал сбоку на Тайми, улыбаясь своей странной, покровительственной улыбкой. Они шли по улице, имеющей больше, чем Хаундстрит, оснований именоваться трущобами.
- Ты пойми, - заговорил вдруг Мартин, - интерес к этим делам у такого человека, как Хилери, - всего лишь повышенная чувствительность. Просто это действует ему на нервы. Для него филантропия то же, что сульфонал, средство от бессонницы.
Тайми взглянула на него ехидно.
- Ну и что же? Тебе это тоже действует на нервы. Но ты смотришь с точки зрения здоровья, а он - с точки зрения чувства, только и всего.
- Да? Ты так думаешь?
- Ты относишься ко всем этим людям так, словно это твои пациенты в больнице.
Ноздри молодого человека дрогнули.
- Ну хорошо, а как же надо к ним относиться?
- Тебе понравилось бы, если бы тебя стали рассматривать как медицинский "случай"?
Марти" медленно обвел рукой полукруг.
- Эти люди, эти дома мешают, - сказал он. - Мешают тебе, мне, каждому.
Тайми, как зачарованная, следила за этим медленным, будто все сметающим жестом.
- Да, конечно, я знаю, - прошептала она. - Необходимо что-то сделать.
И она вскинула голову и поглядела по сторонам, словно показывая ему, что и она может сметать ненужное. В эту минуту она, в своей юной красоте, казалась необычайно твердой и решительной.
В молчании, поглощенные высокими мыслями, молодые "оздоровители" дошли до Хаунд-стрит.
На пороге дома номер один стоял сын хромой миссис Баджен - худощавый, бледный юнец, такого же роста, как Мартин, но уже в плечах - и курил сомнительного вида папиросу. Он обратил на посетителей свои нагловатые мутные глаза.
- Вам кого? - спросил он. - Если девушку, так она выехала. И адреса не оставила.
- Мне нужна миссис Хьюз, - сказал Мартин.
Молодой человек закашлялся.
- Ну, ее-то вы застанете, а вот если вам нужен он, так обращайтесь по адресу Вормвуд Скрабз.
- Хьюз в тюрьме? За что?
- За то, что проколол ей руку штыком, - ответил юнец и выпустил через ноздри роскошный длинный завиток табачного дыма.