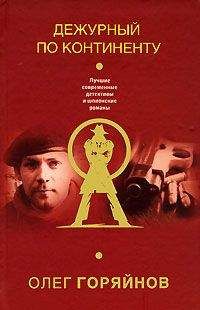Вечером я распрощался с ним перед входом в большой зал гостиницы "У картечи". Я услышал шум, пение и смех и увидел Фриду Гошек, уже занявшую свое место за столом фельдфебеля и искавшую его глазами. Саперы, как всегда, сидели впритык друг к другу в своем "гетто", кутаясь в тяжелые клубы табачного дыма. Оркестр играл "Далибора".
- Вы не зайдете? - спросил фельдфебель.
- О нет. Только не сегодня. Я иду спать. Похоже, у меня жар.
Меня и вправду целый день знобило и мутило. Это были первые признаки тифа, я подхватил его из-за скверного качества питьевой воды, и несколько дней спустя он уложил меня в постель.
- Жар? - рассмеялся фельдфебель. - Ага, мы хотим в лазарет! За неделю до отправки? Это мне нравится. Нетранспортабелен - и все тут. Скажите честно, вольноопределяющийся, ведь я не полковой врач, скажите, что вам просто не хочется в Обезьяньи горы.
Те предметы и явления, необходимость или польза которых чешскому солдату неясна, причисляются им к разряду "обезьяньих". Тирольские вершины кажутся ему бесполезными и абсурдными в своей грандиозности, и потому он именует их Обезьяньими горами, а Тироль в целом - Страной обезьян.
- Я не прочь повидать Тироль. Но мне действительно худо, - возразил я.
- Присоединяйтесь ко мне, выпьем по "шрапнели", а то и по паре. Это лучшее средство от любой заразы. Если, конечно, вам не слабо.
Я закипел от возмущения. Почему мне должно было быть слабо выпить рюмку того сорта шнапса, который у нас в "Картечи" именовали "шрапнелью"? Чем я был хуже фельдфебеля?
- Вовсе мне не слабо! Спорим на два гульдена... нет, на десять гульденов...
- На вашем месте я бы не спорил, - сказал фельдфебель, проталкивая меня в зал.
В "Картечи", как всегда, царило веселье, оркестр наяривал уличные шлягеры и мелодии из старых оперетт: "Рыбачку" и "Ах, я ведь только в плечико се поцеловал", и в перерывах между номерами в фаянсовые тарелочки музыкантов сыпались крейцеры. Солдаты уже настроились на скорую отправку, трубач из фельдъегерского батальона переходил от столика к столику, поднимая тосты за скорейшее возвращение на чешскую родину; некоторые из посетителей сочинили шуточные вирши на жизнь гарнизонного городка в Тироле и теперь во весь голос декламировали их: "Там тоже есть девчонки, говорилось в одном из стишков, - в остальном - тоска"; другие пытались вызвать ревность у своих подружек описанием утех, которые они связывали с красотой и уступчивостью триентянок, а один рядовой громогласно вопрошал, дают ли в Тироле свинину с квашеной капустой, клецками "и пивком впридачу", иначе ему придется дезертировать. Фельдфебель, как всегда, был в ударе; он делал ставки в игре, играл на скрипке, танцевал, пел и подшучивал над музыкантами, не забывая при этом регулярно угощаться "шрапнелью", и как только он заказывал очередную порцию, я спешил последовать его примеру и опустошал ее, как он, одним залпом. Я по-прежнему испытывал ревнивое чувство из-за той девушки, а потому стремился доказать - и фельдфебелю, и самому себе, - что не уступаю ему ни в чем, включая питие.
Мои товарищи но школе одногодичников прошли через зал в свою комнату, бросая на меня укоризненные взгляды. Дело в том, что нам было строго запрещено общаться с унтер-офицерами во внеслужебное время, а я между тем сидел за одним столом с фельдфебелем и его подружкой и сдвигал с ними бокалы. Но теперь мне все было до лампочки. "Черт с ним, - подумал я, если завтра меня за это потребуют к начальству, я просто им скажу, что фельдфебель мой кузен или, скажем, брат моей тети".
Чем больше я пил, тем больше усиливались жар и озноб. Но я не останавливался, мне совсем не хотелось домой. Я все ждал, когда, наконец, фельдфебель снова заговорит о той девушке, чей портрет я видел в его комнате. Однако он говорил очень мало, а ее не упоминал вообще. И все же я продолжал сидеть. Мне вспомнились слова из одной детской песенки, которую я в детстве часто слышал от нашей кухарки:
Не пойду я домой,
Не пойду я домой,
Не хочу, чтоб меня отругали.
И, дабы укрепить себя в своем решении не идти домой, я без конца напевал этот мотив.
Время пролетело так быстро, что я и не заметил, как пробил час ночи. Музыканты уложили свои инструменты и покинули зал. За ними потянулись все остальные. Я изрядно накачался. Мне было нехорошо, я безумно хотел спать и, обхватив обеими руками раскалывавшуюся от боли голову, уныло глядел в пустеющий зал.
Внезапно я дернулся, как ужаленный, и прижался к фельдфебелю, сидевшему возле меня за столом и тупо глядевшему в свой стакан.
Сквозь клубы табачного чада, сквозь пивные и винные пары, наполнявшие воздух гостиницы, я различил огромные неуклюжие фигуры, которые медленно и неповоротливо выползали из углов. Они были похожи на гигантских насекомых с маленькими черными головками и длинными тощими лапками. Вперив в нас стеклянные взоры своих зеленых глаз, они подползали все ближе, надвигаясь прямо на нас с фельдфебелем. Я вскрикнул от ужаса и отвращения и ухватился за руку фельдфебеля. Он, однако, был совершенно спокоен, и я услышал его голос, прозвучавший как-то странно и глухо, словно издалека:
- Ерунда! Можете спокойно спать. Это мои воспоминания. Не пугайтесь их! Они касаются только меня. Это мое прошлое.
Но в следующее мгновение это были уже не воспоминания, не прошлое и даже не насекомые - это были саперы, "жестяные мухи" в своих черных фуражках, наконец-то я их узнал. Саперы увидели, что фельдфебель остался один, и, одержимые жаждой мести, наступали на него в немой ярости.
Он вскочил на ноги и схватил свою кружку пива.
- Вот и они, - раздался его голос. - Осторожно. На этот раз дело принимает серьезный оборот.
Больше я ничего не видел и не слышал и поэтому не знаю, что произошло дальше; усталость, выпивка и сон одолели меня, и я уткнулся головой в столешницу.
* * *
Когда меня растолкали, зал уже был пустым. Повсюду виднелись перевернутые столы и стулья, а пол был усеян осколками разбитой посуды. Последние саперы тянулись наружу, как побитые собаки; большинство из них были в разодранных или насквозь мокрых гимнастерках и пугливо косились на фельдфебеля Хвастека. Тот стоял, опершись о стол, с кружкой пива в руке и выкрикивал вслед каждому из ретирующихся какую-нибудь уничижительную фразу:
- Медсанчасть внизу направо. Поспеши, а то окочуришься! - крикнул он одному, прижимавшему руку к голове.
- Прицел 500, прямое попадание! - засмеялся он и бросил в другого мокрую посудную тряпку, которая шлепнулась тому на голову.
- Держи! Это твой паек, - прозвучало в адрес третьего, на которого он выплеснул содержимое своей кружки.
Затем он вернулся за стол, приобнял Фриду Гошек за се тщедушное тельце, заказал новую порцию пива и задымил сигаретой.
Тут он заметил меня и рассмеялся.
- Ну и видок у вас, вольноопределяющийся! По-моему, вы готовы. Так на сколько гульденов вы собирались спорить?
Он оказался прав. Меня довели до дому и уложили в постель, так как я уже не мог передвигаться без посторонней помощи. Так было с каждым, кто пытался угнаться в питье за фельдфебелем Хвастеком.
* * *
В последующие дни я встречал фельдфебеля всего дважды. Первый раз на плацу, где он муштровал запасников. Он повернулся ко мне, на несколько секунд оставив свой взвод без внимания, и постучал рукой себя по затылку, как бы спрашивая, не трещит ли у меня голова с похмелья. Затем он накинулся на одного из своих рекрутов, который своей неуклюжестью портил весь строй, и выдал в его адрес весь набор обидных прозвищ, что пришли к нему на ум в эту минуту; квашня, осел, размазня, слизняк, отхожее место, болван и штафирка2.
* * *
Два дня спустя я встретил его у ротного сапожника, которому он принес пару сапог для подбивки. Он заверил меня, что я превосходно держался в нашем питейном поединке: молодцом! из меня со временем получится славный офицер, он уже видит себя стоящим передо мной по стойке "смирно". Мы условились, что в субботу утром я буду ждать его в кафе "Радецкий", откуда он заберет меня на прогулку. Как раз в тот день была отменена уборка помещений, которая обычно проводилась в последний день недели, и мы были освобождены от службы на всю субботу и воскресенье, чтобы иметь возможность сделать закупки на дорогу и попрощаться со знакомыми. Начиная со вторника никто не имел права покидать казарму; полк находился в состоянии готовности к походу.
Я еще загодя предпринял все необходимые мелкие приготовления: закупил продукты, чтение в дорогу, учебник итальянского и "Настольную книгу альпиниста", попрощался со всеми знакомыми - своим друзьям я щедро пообещал привезти собранные собственными руками эдельвейсы и коробку южных плодов из Больцано, - а потому мне было очень кстати еще разок бесцельно побродить по старинным улочкам, вбирая в себя образ города, который я покидал с большой неохотой.
В субботу я сидел на площади Радецкого среди лавровых деревьев кофейни. Ветер перелистывал газеты, лежавшие на моем столике. Я не смог заставить себя прочесть их до конца. Я сидел как на иголках и вдобавок чувствовал себя разбитым, выдохшимся и усталым. Это обычное волнение перед дальней дорогой, убеждал я себя, хотя на самом деле это была болезнь - тиф, уже сидевший во мне. Охваченный тревогой и возбуждением, причины которых не были тогда еще понятны мне самому, я подозвал кельнера и хотел рассчитаться. В этот момент я увидел фельдфебеля.