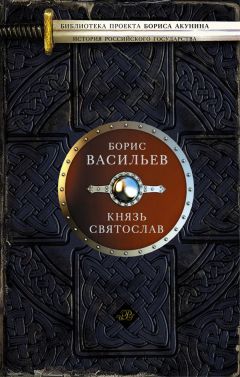- А что мне говорить? Я не умею говорить по-твоему, да и терпеть не могу говорить с ним…
- Отчего же, мой друг? - спросила я с изумлением, - он, кажется, умный человек.
- Он мне противен; иезуит, должен быть.
- Почему ты так думаешь?
- Да уж так, сердце мое чувствует, недаром я так не люблю его; вот вспомни меня.
Лиза имела на меня большое влияние, и потому слова ее огорчили меня и родили какое-то чувство сомнения насчет учителя. Я считала себя, не знаю почему, будто виноватою перед Лизой и старалась всячески заставить забыть ее, что я так исключительно занималась в саду учителем.
Дни становились все теплее. Мы наконец уже получили свободу гулять, сколько душе угодно; тетушка давала нам эту свободу в уважение краткости северного лета. Уже длинные косы мои свободно бились по моим плечам; я не любила носить их обвитыми вокруг головы, как всегда делала Лиза, за что тетушка звала меня Авессаломом.
Свидания наши с Павлом Иванычем повторялись довольно часто; но, Бог весть, отчего мне неловко было говорить с ним при Лизе. Он, видимо, искал нас встретить и показывал в отношении ко мне тонкую внимательность в обращении. Сердце мое билось каждый раз, когда приветливые звуки его голоса касались моего слуха. Мне становилось так хорошо, так отрадно после разговора с ним, как будто тяжесть спадала с моей души. Летом Лиза не была так безотлучна со мною, как зимой; она часто отправлялась с матерью за грибами; это было для нее слишком большое удовольствие, и она бы не пожертвовала им для моего общества. Учитель почти всегда оставался дома, и я уверена была, что после обеда найду его у решетки сада.
Да, я забыла сказать еще что-нибудь о его наружности: помню, что это был белокурый, с тонкими, приятными чертами лица молодой человек среднего роста, с такими мягкими, шелковистыми на взгляд волосами, что невольно хотелось погладить их. Голубые глаза его смотрели на меня внимательно и грустно. Теперь только припоминаю я, что одет он был, увы! в очень старый сюртук.
Однажды, после обеда, мы разговаривали с ним через забор; крик гусей заставил нас оглянуться, птичница прогоняла мимо нас свое стадо.
- Здравствуйте, матушка Евгения Александровна! - сказала она.
Мне вдруг стало неловко и совестно. "Что подумает она, видя, как я одна разговариваю с учителем? Что если это подаст повод к сплетням? если узнает тетушка?.." Но я старалась отогнать эту мысль, и нам снова стало хорошо и весело.
Не забуду я этого дня! мне кажется, и теперь вижу я это синее небо; жаркий воздух румянит мне лицо; рой насекомых жужжит на разные тоны; солнце сушит скошенное сено, и ветерок едва колышет листья берез; вдали за садом сверкает извилистая река; я вижу ее сквозь забор, так же как таинственную синеву дали, как колышущиеся нивы, пестреющие васильками, и дикую ленту дороги, по которой подымается облако пыли и скрипит несмазанная телега. И стоим мы несколько времени под гнетом непостижимого обаяния, и на меня близко, сквозь тын, смотрят два блистающих глаза и слышится дыхание человека, первого любящего меня человека, того, чей голос впервые пробудил в юном сердце моем новые, сладостные ощущения. И голова моя не кружилась, и мне не было страшно - нет, я полною грудью дышала этим очаровательным воздухом, недрогнувшими устами пила первую струю счастья; мне казалось, что жизнь давала мне должное, и я, не краснея, принимала дар ее.
- О чем вы думаете? - спросила я его.
- Я думаю о том, что люблю много, преданно и безгранично, - отвечал он.
- Кого же это вы любите? - спросила я так тихо, что голос мой слился с шепотом листьев… - Хотите меня сделать своей поверенной?
Я уже начинала хитрить.
- Вас, - отвечал он так же тихо, - ведь вы должны же знать это. Вас люблю я, как никого не буду любить… Мне кажется, мне чувствуется, что и вы любите меня.
Странно! Как ни была я приготовлена к подобному ответу, но он меня до того поразил, что первым делом моим было скрыть пылавшее лицо мое за веткой березы, потом бежать, бежать без оглядки домой… И, может быть, в первый раз пробежала я без внимания мимо роскошных групп пионов, пунцовых и розовых, мимо душистых нарцизов и роз; в первый раз я пришла в комнату, не сорвав ни одного цветка. Тетушка еще спала. Я остановилась перед зеркалом в гостиной и с каким-то странным любопытством вперила в него взор. Я любила! эта мысль горела в уме моем ярким заревом… Я любима! и я смотрела на себя и, казалось, видела себя в первый раз… Да, ему нравятся и эти длинные светлые косы, которые мне так хотелось переменить на черные, и эти глаза… да глаза-то у меня недурны, мне и Лиза говорила… Она говорила: "Как бы тебе к этой белой коже да черные волосы и черные брови, ты бы просто была красавица…".
И тут узнала я, что не нужно быть красавицей, чтоб быть счастливой…
- Здравствуй! что это ты любуешься на себя? - сказала тихо вошедшая Лиза.
Мне стало стыдно. Я скрыла, как могла, свое волнение и начала расспрашивать Лизу, много ли она набрала грибов. А между тем совесть моя вопияла против того, что я имела тайну от подруги, так много любимой мною. Но как сказать? как признаться? Я знала ее строгость, знала ее ненависть к Павлу Ивановичу. Я страдала потому еще, что сердце мое жаждало откровенности.
Птичница, однако, не прошла мимо нас даром; она сказала таинственно горничной о том, что, дескать, барышня все разговаривает с учителем; от горничной этот донос непо-средственно перешел к Федосье Петровне; но Федосья Петровна была хитра и осторожна; она не решилась сказать об этом тетушке вдруг, а стала присматривать за нами.
Я долго ничего не замечала. Но однажды Лиза, сидя со мной на балконе и поглядев на меня своими большими серыми глазами, покачала значительно головой… Она знала, что это было верное средство возбудить мое беспокойство. Я просила ее не мучить меня молчанием.
- Послушай, - сказала она, - ты разве хорошо делаешь, что любезничаешь с учителем? Все тебя осуждают, да еще, пожалуй, и он первый будет над тобою смеяться. Вчера была у нас Марья Матвевна (соседка), и она уж слышала: "Как жаль, - говорит маменьке, - он, должен быть, ужасный человек, а она еще ребенок". А маменька говорит: "Моя Лизавета таких же лет, да в одном доме живет, а, слава Богу, ведет себя не так… Жаль, говорит, бедная маменька крестная! а как скажешь, Марья Матвевна, сама посуди!". Вот что говорят! а наша Арина говорит, что вы уж с ним целуетесь… Да ты не пугайся, ты брось это все, так и говорить перестанут… Али ты и вправду влюблена? - видишь, ты побледнела как! - сказала она, взглянув на меня.
Я чувствовала, как вся кровь прихлынула мне к сердцу; я дрожала от горя и негодования, и наконец залилась слезами, проникнутая глубоким оскорблением… Я рыдала, прислонясь к деревянной колонне балкона. Лиза долго глядела на меня своими спокойными глазами, потом вдруг наклонилась ко мне и сказала почти нежно:
- Да полно плакать, о чем ты плачешь? Экая важность! полно, все пустяки! вперед ничего тебе не скажу. Вот он сколько тебе горя наделал! недаром я терпеть его не могу.
Знаете ли вы, как тяжела первая клевета, каким камнем западает она в молодую, доверчивую душу, как мрачит чистый поток первых девственных мечтаний? Это первое зерно зла, это начало сомнения в жизни…
Лиза успела, наконец, успокоить меня немного, но весь тот день я не могла без ужаса вспомнить, что выдумало на меня праздное воображение болтуньи Арины. Через несколько дней я стала как будто привыкать к своему горю; но уже далеко не те были мои свидания с ним: они отравлены были сомнением, страхом и чем-то необъяснимо грустным. Он не мог не заметить этого, но я скрыла от него причину моей печали и рассеянности.
Однажды Лиза сказала мне, что она идет после обеда за грибами. День был дивный; ночью шел дождик; сад дышал благовонною сыростью, зелень его переливалась ярче обыкновенного. Мы сидели на крыльце: широкий двор расстилался перед нами изумрудным ковром, кой-где испещренным лиловыми колокольчиками, алою купальницей да золотистыми цветочками лютика. Три девочки и мальчик, все не старше пяти лет, полунагие, как амуры, живописно расположились на траве. Они строили домик из старых кирпичей; их полненькие ручонки сверкали на солнце, и серебристый смех раздавался звонко. Вдали, за двором, синел лес, который был недоступен для меня, как эдем для грешника, и, вероятно, потому именно манил меня неодолимо. Тетушка имела странное упрямство не пускать меня дальше сада.
- Как ты счастлива! - сказала я со вздохом Лизе, - ты идешь в лес! Нарви мне ландышей: в саду немного, и я рвать их не хочу, потому что вечером наслаждаюсь их запахом.
- А какие цветы там на реке! - сказала она, - донник, кувшинчики!., здесь нет таких. Знаешь что, Генечка? попросись! тетушка отпустит тебя, теперь ты не маленькая…
- Может быть и отпустит, да ей это будет неприятно.
- Вот еще! только бы отпустила, а там посердится, да такая же будет.