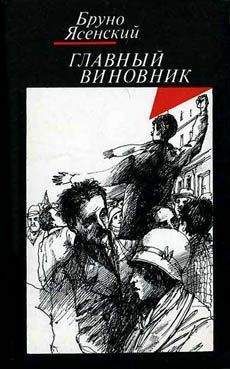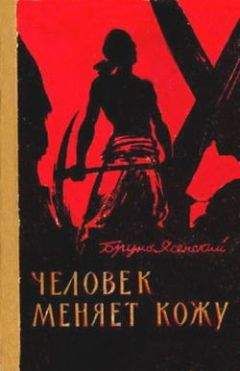* * *
Оставшись один, профессор Калленбрук долго сидел, погруженный в горькое раздумье. "В конце концов партия за мои заслуги могла бы сделать для меня исключение... - сказал он себе после противоречивых размышлений. - Может быть, мне следовало бы добиться аудиенции у вождя? Разве бессмертный Заратустра национал-социализма Фридрих Ницше не происходил из польской семьи Нецких? Польское происхождение, если разобраться, не намного лучше еврейского. Прибавить к польскому происхождению Ницше его ярко выраженную шизофрению, и шансы станут почти равными... О боже! - встрепенулся профессор. - Я даже думать стал, как еврей! Разве раньше я осмелился бы когда-либо так подумать о нашем великом учителе? Нет, фон-дер-Пфордтен прав! Наследственный яд еврейства уже отравил мою германскую душу. Я больше не хозяин своим мыслям. Нет для меня спасения! Если я не покончу с собой, они все равно сделают это за меня..." С тяжелым вздохом он поднялся со скамейки и, сутулясь, поплелся вон из сада по направлению к Шпрее. Однако ноги по старой привычке привели его к пивной Левенброй. Большие часы на углу показывали семь. Да, это было как раз обычное время, когда завсегдатаи круглого стола в пивной Левенброй, члены-основатели Общества борьбы за чистоту германской расы, собирались за кружкой-другой потолковать о высоких материях и обсудить текущие вопросы движения. Не дальше как вчера он сидел здесь в своем уютном кресле, имея по левую руку профессора Себастьяна Мюллера, по правую - бравого доктора Фабрициуса Гиммельштока, редактора "Германского медицинского еженедельника" и автора нашумевшего "Евгенического исследования состава семей всей прусской полиции", - сидел и спокойно обсуждал вместе с ними экстренные меры выправления катастрофической статистики, согласно которой семьи прусских полицейских размножаются в три раза медленнее, чем семьи простых рабочих. При виде вывески "Левенброй" профессора Калленбрука захлестнул рой навязчивых воспоминаний, вызывая на его глазах слезы умиления. Его непреодолимо потянуло еще раз, хотя бы через витрину, бросить прощальный взгляд внутрь знакомой пивной, на коллег, сидящих за столом. Да, они сидели там, как обычно, вокруг своего любимого стола с неизменной дощечкой "занято". Профессор с волнением увидел свое пустующее кресло. Зная врожденную аккуратность Калленбрука, они, должно быть, теряются сейчас в догадках, что могло ему помешать быть в эту минуту среди них. Все почти были в сборе. Не хватало лишь его да бравого доктора Гиммельштока, задержавшегося, очевидно, в своей редакции. В больших граненых кружках золотела янтарная влага. Бедный профессор явственно ощутил во рту ее горьковатый привкус и провел языком по губам. Господин юстицрат Нольдтке держал в руках пухлую неразрезанную книгу и, ударяя по ней ладонью, доказывал что-то круглолицему профессору Мюллеру с пасторальным венчиком седых волос, всклокоченных вокруг лысины. Профессор Калленбрук привстал на цыпочки и прильнул к стеклу, желая разглядеть название книги. Прикосновение холодного стекла вернуло его мгновенно из сферы умильных грез в мрачную действительность. - Вы что тут делаете? - раздался за его спиной знакомый голос. Профессор Калленбрук обернулся. Перед ним стоял бравый доктор Гиммельшток, как всегда одетый с иголочки, в новой фетровой шляпе, чуть сдвинутой на затылок. - Ослепли? - указывал он палкой на надпись в витрине: "Евреям вход воспрещен". - Кажется, ясно? - ...Вы... не узнаете меня? - растерянно пролепетал Калленбрук. - У меня нет и не может быть знакомых среди представителей вашей расы! - с достоинством смерил его взглядом Гиммельшток. - Проходите и не портите нам вида на улицу! Он отстранил Калленбрука палкой и исчез в дверях пивной. Профессор Калленбрук отшатнулся, задев одного из прохожих. Тот оттолкнул его с такой силой, что бедный ученый растянулся во весь рост под одобрительный хохот зевак. От удара о тротуар у профессора выскочила искусственная челюсть. Он пополз было за ней на четвереньках, но кто-то предусмотрительно поджигнул ее ногой на середину улицы, под проезжающие автомобили. Профессор Калленбрук подумал, что утопиться можно и без челюсти, и, встав на ноги, торопливо свернул в первую узкую улочку. Стараясь пробираться незамеченным, после нескольких минут ходьбы он спустился к Шпрее. На черной поверхности реки плавали жирные блики фонарей. Профессор остановился на мосту. Внизу чавкала вода, проделывая явственные глотательные движения. Волны столпились вокруг быков моста, словно дожидались здесь профессора Калленбрука, и, не стесняясь его присутствием, уже смаковали его несколько полное, хорошо сохранившееся для своего возраста пятидесятилетнее тело. Такое грубое равнодушие к человеческим переживаниям показалось профессору оскорбительным. Он торопливо прошел мост, решив покончить с собой где-нибудь в другом месте. Он спустился на набережную и долго шел вдоль реки, от времени до времени останавливаясь и высматривая подходящее местечко. Река забегала вперед и, смачно облизываясь, поджидала его на каждом повороте. После длительных поисков он облюбовал себе, наконец, укромный уголок настоящую пристань самоубийцы, когда до его ушей долетел топот шагающих ног и звуки хоровой песни. Это была его любимая песня - песня Хорста Весселя, неоднократно исполнявшаяся в пивной Левенброй с неизменным успехом и не без участия профессора Калленбрука. Он мысленно пропел первые строки. Вдруг он заметил, что пустынная до сих пор набережная стала быстро оживляться. По тротуарам и по мостовой врассыпную бежали люди. С шумом захлопывались окна и ворота домов. Песня Хорста Весселя слышалась все ближе. Профессор Калленбрук неожиданно очутился среди бегущих людей. Кто-то крикнул ему в ухо по-еврейски: - Чего стоишь? Беги! Профессор хотел было обидеться, что его принимают за еврея, но не успел. Охваченный паническим ужасом, он, не размышляя, пустился во весь мах вслед за другими. Количество бегущих таяло, растворяясь в переулках и подворотнях. Профессор Калленбрук не знал, куда ему свернуть, не знал даже точно, где он находится. Измученный одышкой, он прислонился к фонарному столбу, жадно хватая ртом воздух. - Беги! - крикнул промчавшийся мимо мужчина. Профессор послушно пробежал еще несколько шагов и, наконец, без сил опустился на край тротуара. Мужчина, опередивший его, остановился в нерешительности, потом вернулся и, взвалив к себе на плечи Калленбрука, побежал дальше. Они свернули в какой-то узенький переулочек, и мужчина с Калленбруком на спине нырнул в большие темные ворота, пропахшие чесноком и кошками. Во втором дворе, на черной лестнице, он посадил Калленбрука на ступеньки. Оба дышали долго и часто, вслушиваясь в нарастающие звуки хоровой песни Хорста Весселя, любившего стихи, вино и девочек. Песня прогремела мимо под трещотки свистков и звон битых стекол и постепенно стала удаляться. - Пойдем, - шепнул мужчина. Он поднялся, поманив за собой Калленбрука. Они вскарабкались по узкой крутой лестнице на четвертый этаж. Профессор взбирался с трудом. Со студенческих времен ему не приходилось так много бегать. Пройдя темный коридор, мужчина постучал в одну из дверей. Дверь открыли не сразу. Люди за дверью долго выспрашивали по-еврейски пришедшего. Наконец, скрипнул засов...
* * *
В комнате, куда ввел Калленбрука незнакомец, стоял длинный стол. На столе горели свечи в двух семисвечных канделябрах, стоял телефон, две тарелки с мацой, лежал раскрытый талмуд огромных размеров и большая груда золотых монет. За столом сидело двенадцать ветхих евреев в меховых раввинских шапках. У евреев были седые бороды до пояса и пейсы, длинные, как растянутые пружины. При виде профессора Калленбрука все двенадцать старцев с неожиданной в их возрасте резвостью вскочили с мест и спели хором:
Мы - дюжина, мы - дюжина Сионских мудрецов! Весь мир нам нужен, нужен нам! Съедим его за ужином...
Кончив петь, они проделали челюстями несколько прожорливых движений и лязгнули зубами, образно показывая, как будет происходить это съедение всего мира за одним ужином. Затем, проплясав на месте несколько тактов, старцы, как по команде, снова уселись за стол и погрузились в суровое молчание. - Кто ты такой? - обратился к Калленбруку самый ветхий еврей. Волосы росли у него из ушей и из носа, седые, как полынь, и буйные белые брови, ниспадавшие на глаза, казались второй парой усов, выросших по ошибке над глазами. - Кто я такой? - скорбно прошамкал Калленбрук. - Еще вчера я был богатым и почитаемым человеком, главой семьи и гордостью друзей. А теперь? Теперь я просто бедный еврей. - Какое несчастье тебя постигло? - торжественно, как по загодя установленному церемониалу, спросил старец с двумя парами усов. - Ой, господин сионский мудрец! - вздохнул протяжно Калленбрук. - Меня постигло такое несчастье, что, если я вам расскажу, вы мне не поверите. У меня был прекрасный арийский нос, - какой нос! - и мне его подменили вот этой тыквой. У меня была еще молодая, совсем недурная жена, и у меня ее отняли и велели ей делать детей с женатым господином регирунгсратом Освальдом фон Вильдау. У меня были дети, - какие дети! - и их заберут во вспомогательную школу и там их стерилизуют, чтобы они не могли больше размножаться. У меня была слава и почет, а теперь я не могу показаться на улицу, чтобы любой щелкопер не вышиб у меня челюсть и не выпачкал платье. Скажите, господин сионский мудрец, бывал ли когда на свете человек несчастнее меня? Тут все двенадцать евреев сострадательно покачали головами, а старец с лицом, заросшим полынью, спросил в третий раз: - Хочешь ли ты отомстить тем, кто тебя обидел? - Хочу ли я отомстить? А вы бы не хотели отомстить за свою испорченную жизнь, за свою поруганную жену, за своих стерилизованных детей? Но скажите, господин сионский мудрец, - что я могу сделать? - Хорошо, - кивнул старец, - мы тебе поможем. Поклянись только, что ты навсегда останешься с нами и никогда никому ничего ни при каких обстоятельствах не расскажешь. Вот на тарелке маца. Она замешана на крови господ национал-социалистов, расстрелянных самим господином Гитлером. Отломи кусок и съешь! - Пропади они все пропадом! - воскликнул профессор, отломил большой кусок мацы и проглотил не жуя. Тут он почувствовал, что его мысли вдруг преисполнились неизвестной ему доселе хитростью и коварством и что в голове у него зреет еще смутный, но на редкость адский план. - Как бы ты хотел им отомстить? - спросил старец. - Подождите, подождите, у меня есть идея! - вдохновенно возвестил Калленбрук. - Они основали генеалогический сад, где по актам, гражданской записи воссоздают точную родословную каждого немца вспять до десятого колена. Каждый месяц на основе вновь разысканных документов они вносят поправки в генеалогические деревья. Давайте подкупим всех архивариусов Германии и впишем в метрические записи каждому чистокровному немцу по одному предку еврею! Завтра вся Германия узнает, что Геринг - вовсе не Геринг, a Hering - простая еврейская селедка - и что нет ни одного национал-социалиста, дедушка или по крайней мере прадедушка которого не был бы евреем! Выслушав слова Калленбрука, все двенадцать мудрецов пустились отплясывать большевистский гопак. Когда улеглась первая вспышка всеобщего восторга, старец с двойными усами обратился к Калленбруку: - Было нас до сих пор двенадцать сионских мудрецов. Каждый из нас придумал немало козней на погибель христианскому миру, но никто не додумался до более гениального плана. Ты заслужил почетное звание сионского мудреца. С сегодняшнего дня нас будет тринадцать! Тут все старички пришли в такое ликование, что долго не могли угомониться. Профессору Калленбруку надели на плечи атласный лапсердак, на голову большую шапку раввина и усадили его на самое почетное место. Профессор не без удивления заметил, что из его бритого подбородка, как вода из библейской скалы от прикосновения жезла Моисеева, брызжет длинная серебряная борода. Когда водворилась тишина, старики приступили к обсуждению деталей плана мщения. - Если в один день у каждого немца окажется по предку еврею, то всем им, волей-неволей, придется с этим примириться, и между ними не получится никакого раздора, - сказал черный, лоснящийся старец с длинными клыками седых усов, похожий на моржа. - Поэтому, по моему разумению, нужно вписывать не сразу всем, а постепенно: сначала одним национал-социалистам, и не всем, а сперва только самым заслуженным. Все согласились с этим справедливым замечанием, и тут же было постановлено для начала вписать еврейских предков только членам национал-социалистической партии, обладателям партийных билетов с № 1 по №