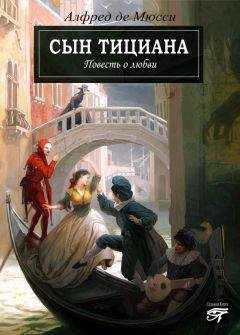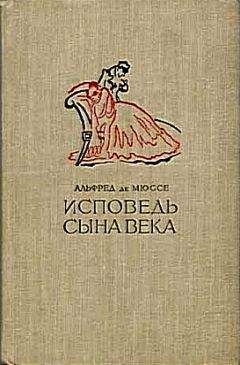- Уедем, уедем, - говорила Бригитта, - улетим, как птицы. Вообразите себе, дорогой Октав, что мы только вчера познакомились друг с другом. Вы встретили меня на бале, я понравилась вам и сама полюбила вас. Вы рассказываете мне, что в нескольких лье отсюда, в каком-то маленьком городке, у вас была возлюбленная - некая госпожа Пирсон, рассказываете о том, что произошло между вами. Я не желаю верить этой истории, и, надеюсь, вы не вздумаете посвящать меня в подробности вашего увлечения женщиной, которую покинули ради меня. В свою очередь и я признаюсь вам на ушко, что еще недавно я любила одного шалопая, который причинил мне немало горя. Вы мне выражаете свое сочувствие, просите молчать о том, что было дальше, и мы даем друг другу слово, что никогда больше не будем вспоминать о прошлом.
Когда Бригитта говорила мне это, я испытывал чувство, похожее на жадность. Я обнимал ее дрожащими руками.
- О боже, - восклицал я, - я и сам не знаю, что заставляет меня трепетать - радость или страх. Я увезу тебя, мое сокровище. Перед нами бесконечная даль, и ты моя. Мы уедем. Пусть умрет моя юность, пусть умрут воспоминания, тревоги и горести! О моя добрая, моя мужественная подруга! Ты превратила мальчика в мужчину. Если бы теперь мне случилось потерять тебя, я уже никогда больше не смог бы полюбить. Быть может, прежде, когда я еще не знал тебя, исцеление могло бы прийти ко мне и от другой женщины, но теперь ты, одна ты во всем мире можешь убить меня или спасти, ибо я ношу в сердце рану, нанесенную всем тем злом, которое я тебе причинил. Я был неблагодарен, слеп, жесток, но, хвала богу, ты еще любишь меня. Если когда-нибудь ты возвратишься в деревню, где я впервые увидел, тебя под липами, взгляни на этот опустевший дом: там наверное живет призрак, - ведь человек, который вышел с тобой оттуда, это не тот человек, который вошел туда.
- Правда ли это? - спрашивала Бригитта, и ее прекрасное лицо, сияющее любовью, обращалось к небу. - Правда ли, что я принадлежу тебе? Да, вдали от этого ужасного света, который преждевременно состарил тебя, да, там ты будешь любить меня, мой мальчик. Там ты будешь настоящим, и где бы ни был уголок земли, куда мы поедем искать новую жизнь, ты сможешь без угрызений совести забыть меня в тот день, когда разлюбишь меня. Мое назначение будет исполнено, и у меня всегда останется бог, которого я смогу возблагодарить за это.
Какие мучительные, какие тяжелые воспоминания встают в моей душе еще и теперь, когда я повторяю себе эти слова! В конце концов было решено, что прежде всего мы поедем в Женеву и выберем у подножия Альп спокойное местечко, где можно будет провести весну. Уже Бригитта говорила о прекрасном озере, уже я мысленно вдыхал свежий ветерок, волнующий его поверхность, и наслаждался живительным ароматом зеленой долины. Уже я видел перед собой Лозанну, Веве, Оберланд, а за вершинами Монте-Розы необъятную равнину Ломбардии. Уже забвение, покой, жажда бегства, все духи счастливого уединения звали, манили нас к себе. И когда по вечерам, взявшись за руки, мы безмолвно смотрели друг на друга, нас уже охватывало то странное и возвышенное чувство, которое завладевает сердцем накануне далеких путешествий, то таинственное и необъяснимое головокружение, которое порождается и страхом перед изгнанием и надеждой паломника. О боже, это твой голос призывает человека в такие минуты, предупреждая его, что он придет к тебе. Разве у человеческой мысли нет трепещущих крыльев и туго натянутых звонких струн? Что мне сказать еще? Ведь целый мир заключался для меня в этих немногих словах: "Все готово, мы можем ехать".
И вдруг Бригитта начинает тосковать. Голова ее все время опущена, она постоянно молчит. Когда я спрашиваю ее, не больна ли она, она угасшим голосом отвечает "нет". Когда я заговариваю о дне отъезда, она встает и с холодной покорностью продолжает свои приготовления. Когда я клянусь ей в том, что она будет счастлива, что я посвящу ей всю жизнь, она запирается у себя и плачет. Когда я целую ее. она бледнеет и подставляет мне губы, но избегает моего взгляда. Когда я говорю ей, что еще не поздно, что она еще может отказаться от наших планов, она хмурит брови с жестким и мрачным выражением. Когда я умоляю ее открыть мне сердце, когда я повторяю, что готов умереть, что пожертвую для нее своим счастьем, если это счастье может вызвать у нее хоть один вздох сожаления, она бросается мне на шею, потом вдруг останавливается и отталкивает меня, как бы невольно. И вот, наконец, я вхожу в комнату, держа в руке билет, где помечены наши места в безансонском дилижансе. Я подхожу к ней, кладу билет к ней на колени, она простирает руки, вскрикивает и падает без чувств у моих ног.
2
Все мои старания угадать причину столь неожиданной перемены были напрасны, все мои вопросы остались без ответа. Бригитта была больна и упорно хранила молчание. Как-то раз, после того как весь день я провел, умоляя ее объясниться и теряясь в догадках, я вышел на улицу и побрел сам не зная куда. Когда я проходил мимо здания Оперы, какой-то барышник предложил мне билет, и я бессознательно, повинуясь старой привычке, вошел в театр.
Я был не в состоянии сосредоточиться на том, что происходило на сцене и в зале: я был так огорчен и вместе с тем так растерян, что внешние впечатления как бы перестали воздействовать на мои чувства и я, если можно так выразиться, жил в себе. Все мои силы объединились вокруг одной мысли, и чем больше я обдумывал ее, тем меньше понимал. Что это за ужасное, неожиданное препятствие опрокидывало вдруг, накануне отъезда, столько планов и надежд? Если дело касалось обычной житейской неприятности или даже действительного несчастья, вроде материальной потери или смерти кого-нибудь из друзей, то чем объяснялось упорное молчание Бригитты? После всего, что она сделала для меня, и в ту минуту, когда самые заветные наши мечты были так близки к осуществлению, какого рода могла быть тайна, которая разрушала наше счастье и которую она ни за что не хотела открыть мне? Мне! Она не хотела поделиться со мной! Пусть ее огорчения, ее дела, пусть даже страх перед будущим или какие-нибудь другие причины, вызывающие грусть, нерешительность или гнев, удерживают ее здесь на некоторое время или заставляют вовсе отказаться от этого столь желанного путешествия почему бы не открыть их мне? Однако сердце мое находилось тогда в таком состоянии, что я не мог предположить во всем этом что-либо предосудительное. Даже тень подозрения отталкивала меня и внушала отвращение. С другой стороны, можно ли было ждать непостоянства или даже простого каприза от этой женщины - женщины, которую я так хорошо знал? Итак, я блуждал в потемках, не видя перед собой ни одного даже бледного огонька, который мог бы указать мне путь.
Напротив меня, на галерее, сидел молодой человек, лицо которого показалось мне знакомым. Как это часто бывает, когда ум поглощен какой-либо мыслью, я бессознательно смотрел на него, надеясь, что его наружность поможет мне вспомнить его имя. И вдруг я узнал его: это он приносил Бригитте письма из Н., о чем я уже упоминал выше. Я инстинктивно вскочил, намереваясь подойти и поговорить с ним, но, чтобы добраться до его места, надо было потревожить множество зрителей, и мне пришлось ждать антракта.
Если кто-нибудь и мог пролить ясность на единственный предмет моего беспокойства, то только этот молодой человек, и никто иной, - такова была первая мысль, которая пришла мне в голову. За последние несколько дней он неоднократно беседовал с г-жой Пирсон, и я вспомнил, что после его ухода я неизменно заставал ее грустной, и не только в первый раз, но и всякий раз, как он приходил. Он виделся с ней и накануне и утром того дня, когда она заболела. Бригитта не показывала мне писем, которые он приносил ей. Возможно, что ему была известна истинная причина, задерживавшая наш отъезд. Быть может, он и не был полностью посвящен в тайну, но бесспорно мог ознакомить меня с содержанием этих писем, и я имел основания считать его достаточно осведомленным относительно наших дел, чтобы не бояться обратиться к нему с таким вопросом. Я был в восторге, что увидел его, и, как только занавес опустился, выбежал в коридор, чтобы встретиться там с ним. Не знаю, заметил ли он, что я подхожу к нему, но только он пошел в противоположную сторону и вошел в одну из лож. Я решил дождаться, пока он выйдет, и с четверть часа прогуливался, все время не спуская глаз с двери в ложу. Наконец она открылась, он вышел. Я тотчас же издали поклонился ему и устремился к нему навстречу. Он сделал несколько нерешительных шагов в мою сторону, потом внезапно повернул назад, спустился с лестницы и исчез.
Мое намерение подойти к нему было чересчур очевидно, чтобы он мог таким образом ускользнуть от меня без явного нежелания встретиться со мной. Он должен был знать меня в лицо, да, впрочем, если бы даже он и не узнал меня, то человек, который видит, что другой человек направляется к нему, должен по крайней мере подождать его. Мы были одни в коридоре в эту минуту, так что сомнений не оставалось - он не хотел говорить со мной. Мне и в голову не пришло увидеть в его поступке дерзость: человек этот ежедневно бывал в моей квартире, я всегда оказывал ему любезный прием, манеры его отличались скромностью и простотой, - как мог я допустить, что он хотел оскорбить меня? Нет, он хотел только избежать встречи со мной и избавиться от неприятного разговора. Но почему же, почему? Эта вторая тайна взволновала меня почти так же сильно, как первая, и как ни старался я прогнать эту мысль, исчезновение молодого человека невольно связывалось в моем уме с упорным молчанием Бригитты.