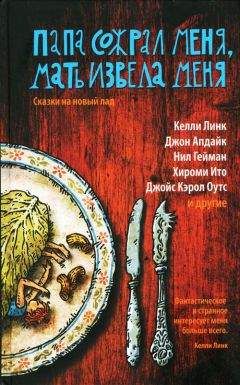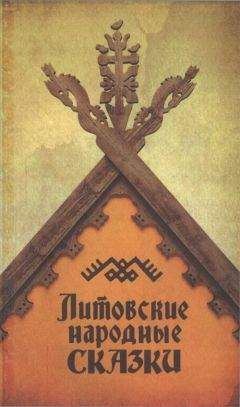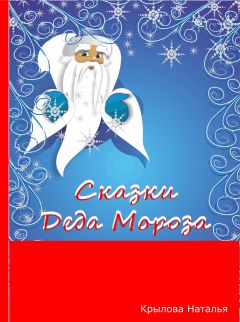Рею Локу не доставало года до сорока, а Мередит Паганелли Лок исполнилось сорок пять.
Они поженились, когда ему было двадцать девять, а ей — тридцать пять. Тогда — оба молодые, а сейчас уже перетекли в новое качество: Рей — все еще молод, а Мередит — средних лет. Он сделал ей предложение в японском чайном садике, под лакированным мостиком лепетал ручей, и оба они были восходящими звездами в ресторане, вдохновленном Элис Уотерз. Рей вырос в состоятельном клане с Русского холма, а Мередит — единственный ребенок пожилых итальянских родителей с Сансет, из дома с видом на трамвайные провода линии «Н» по Джуда-стрит, дрожавших, как цирковые канаты. Два разных мира, и все же они с Реем встретились на кулинарных состязаниях старших классов в «Центре Москоуни» и однажды, в безупречной кухне его матери, состряпали закваску, и она рванула, и кто бы мог подумать, что это пощекочет их обоих таким ужасом и восторгом, что они потом станут покупать ароматические палочки в Чайнатауне, и она покажет, как ему надо пошептать в одном углу колумбария «Общества Нептуна», чтобы слова просочились сквозь прах многих первопроходцев Запада и попали к ней в ухо на другом конце здания, и что каждый День всех святых они будут взбираться на башни-близнецы и пить там вино, которое он спер из отцовского погреба, и глядеть на город, мерцающий жемчугами, что шлют посланья в темном море, кто бы мог подумать, почему не стали целоваться они, а почувствовали, как ими овладевает покой.
Занырнув с подружками на Хэйт и приняв какое-то ядовитое питье, Мередит взялась рассуждать об этой интрижке. «А доказательства у тебя есть?» — спросила Бет-Энн. «Дали ему эту его программу вести, так он и зазнался», — сказала Линдзи после третьей рюмки. Сюзен добавила, что есть такие, кто на телевидении готов лечь под кого угодно, и Мередит надо спросить у ее подруги Евы, Реевой режиссерши. «Я его заколю в сердце», — сказала Тереза, раздался взрыв хохота, а Мередит в ужасе поставила свой мартини, потому что вокруг будто бы поднялось что-то и обвилось под подбородком. Канделябры — щупальца, пышущие светом. Бет-Энн ставила на Лолу, платиновую блондинку, бывшую девушку Рея. «Лола — беда», — сказала Тереза. Хотя, может, их там целая куча болтается по студии, этих глупых девиц, фанаток кулинарного ведущего. Сюзен спросила, не ошибка ли покупать такие «шпильки», от которых, кстати, адски болят стопы, — и закинула ногу на стол. Тереза весело заорала, предложив им всем залечь в засаде и поймать Рея с поличным. Лица у них всех будто залоснились, рты растянулись, а волосы вздыбились париками ужаса. В туалете Мередит развезло, она поплескала воды на лоб. Никак не найти ей слов, чтобы сказать им: Но он же мой лучший друг — или, по крайней мере, им когда-то был.
Он притискивал к себе мысль, столь яркую, почти чувственную, что сможет остановиться, пока не причинил вреда, при этом одновременно понимая, почти столь же пылко, что удержаться не сумеет, — упоительно удовольствие шагнуть за грань, утонуть в поцелуях и лихорадочных воровских ласках.
И, конечно же, крен во вранье. Мередит ждала его у Оперы Военного мемориала, а мимо по Ван-Несс плыли машины. Давали «Тристана и Изольду». Зазвонил телефон: Рей сказал, что будет сниматься допоздна. Он учил публику готовить недорогие, простые ужины. Оставь мой билет в окошке администратора, я надеюсь подъехать в антракте. На ней зеленовато-голубое платье с открытой спиной и рыбьим хвостом. Она затянула пояс на плаще; летний туман уже загонял толпу внутрь. Оба их билета она подарила юной паре, поклонникам Вагнера — те были в восторге. Зашла в булочную, купила себе «Наполеон», и парень за стойкой спросил, не замужем ли она, а Мередит, желая невидимости, не задумываясь ответила: «Нет». Он, с оттяжкой: «А что это у вас на пальце?» Вздев руку с кольцом, она вспомнила старую шутку: «Это? Чтобы мух отгонять». Ухмылка у него на лице оказалась дико бестрепетной, она поежилась, встала, расплатилась и сбежала — прозрачна даже для чужих.
Ева Робидо пригласила Мередит в «Паромную переправу» на послеобеденный чай. Себе заказала со льдом, в такой холодный стакан, что тот рыдал горючими слезами. Поблагодарила Мередит за давнишнюю помощь с рехабом, сразу после их знакомства в «Уздечке» — Ева тогда еще была линейным поваром. Мередит уговорила Еву пойти на телевидение — та без конца нудила, что готовить скучно, работа тяжкая, и ничего-то вечного в итоге не остается. Раздутые киты приплывают и жрут твое рукоделье. Мередит передала Рея на попечение Евы, когда тот выразил то же неудовольствие от работы повара. «Мы волнуемся, Мерри, — сказала Ева, возясь с блюдцем. — Ты какая-то грустная». От чая Мередит слегка затошнило, но Еве нравилось, что чаепития подтверждают ее свободу от скотча; ее родители оплатили ей реабилитацию в центре, что предпочитали всякие звезды. Детство у нее было, как у Рея: катания на пони в день рождения, зимние каникулы в Гштаде (где состоятельные люди обходились без надлежащей расстановки гласных); родители ее отсыпали ракушек, чтобы запихнуть ее в кулинарный храм «Ле Кордон Блё» в Париже, а их принцесса могла выкинуть из головы все, чему она там научилась. Ева была соблазнительными примером беззаботности, непривязанности. Миниатюрная, ослепительная, в свои тридцать два она могла сойти за двадцатилетнюю. Трясущиеся руки Мередит расплескали чай, и на скатерти нарисовался кленовый лист. «Ты болеешь? Мне волноваться за тебя?» — спросила Ева, и лицо ее стянуло от беспокойства. «Ой, да мелочи. Простуда. Все в порядке», — ответила Мередит, звякнув чашкой.
Ее защищенное детство, увеселенное посещениями томатных узкоротов в Стайнхартском аквариуме. На собеседование в ресторан «Морской волк» она облачилась в буклированный костюм; та работа ей не досталась, и она выучилась носить сабо и прихватывать с собой собственный набор ножей. Ее каникулы с престарелыми родителями состояли в недальних поездках к домику в Санта-Крус — к дяде с тетей, которые ныряли за морскими ушками и, отбивая по вечерам мясо к ужину, визгливо ссорились. Если вскрыть раковину морского ушка, увидишь мышцу — и всё. Тетя с дядей отделали ракушками забор, и перламутровые плошки, как крещенские купели, горели и блистали в бьющем солнце.
Ему нравилась иллюзия контроля — он знал, что это она и есть. Поглаживая плоский Евин живот, груди, что качались на волнах ее дыхания, он сказал: «Как-то оно… подло, что ли. Пригласить ее на чай, чтобы поизучать». — «Я хотела убедиться, что у нее все в порядке». — «Может, расскажем ей?» Это он повторил, и Ева нахмурилась, кончики наманикюренных неоном пальцев мяли ему бедро. Ответ предполагал, что у них с Реем есть какое-то будущее. «Иди сюда», — сказала она. Ева посвятила его в понятие «постельная прическа»: она скручивала свои насыщенно-светлые волны в веревку и забрасывала на спину. Кожа у нее безупречна, а глаза — сапфировое стекло. Она вся была пористая, всегда готова к проникновению. Он поцеловал ее, глубоко, и она обвила ему шею. Полосы тени в ее мансарде на Маркет-стрит (родители и за это заплатили сполна) рисовали на них рябь — так прибой перебирает пески.
Мередит показывала кондитеру-новичку, как вытягивать тесто для штруделя: под раскатанным слоем медленно двигаем руки тыльной стороной. Резкое движение может порвать тесто: потребна певучая плавность. «Представьте, что играете на арфе, которая лежит на боку», — говорила Мередит мягко, и костяшки ее пальцев под маслянистой вуалью вспухали маленькими розовыми бугорками. Тихое терпение — вот что было у них с Реем; хоть это и не буйная самозабвенность и лихорадочное тисканье друг друга — такого и не бывало никогда, — но напоминало послание Святого Иоанна к Коринфянам, его нежные строки о любви, что не превозносится и долготерпит.[9]
Когда они еще были просто друзьями, Мередит учила его бальным танцам. Когда-то она была знатоком. Он встречался с кем-то, а она переходила границы нежности. Как-то она целую неделю столько помогала ему репетировать, чтобы он произвел впечатление на свою новую возлюбленную, что в туфлях собралась кровь. У нее кровоточила матка, а пальцы все заклеены после учебы в Кулинарной академии. Застенчивая до немоты, она ждала и растила травы в ящиках, что сотрясались от проезжавших трамваев. Они с друзьями разговаривали на кассетном итальянском — питали свою фиксацию на Риме, огромном рушащемся городе, облитым жидкими солнцем.
Когда позволяли графики, Мередит и Рей забавлялись игрой «задержи дыхание». Как-то оставшись одна дома, она погрузилась под воду и почувствовала себя прозрачной, как те просвечивающие насквозь креветки, которых видно только из-за нитки еды, что движется по их потрохам. Море: божья ванна, божьи купальные игрушки. Он возится там и пытается собрать из рыб физическую модель, что поможет Ему выправить изначальный замысел человеческой любви. Всякий самец рыбы-удильщика кусает самку, что подвернется, и виснет на ней, срастаясь с нею навсегда, питаясь ею, куда б та ни плыла. Бесшовные связи плоти: мать Мередит умерла несколько лет назад, во сне, а за нею — отец, всего через десять дней, почти час в час. Мередит плавала и размышляла, и тут из прозрачного ниоткуда ее будто ударила молния: «Ева. Господи, мой муж спит с моей подругой Евой. Я отправила его к ней, когда ему надоело торчать на кухне». Ева и ее опьяняющая смесь сласти и власти. Мередит так дрожала, лежа ночью в постели, что они с Реем повернулись друг к другу во тьме, никакой любви, но его объятья показались ей так естественны, так теплы, а изгиб его длинного тела — так уютен, будто гамак набок перевернули.