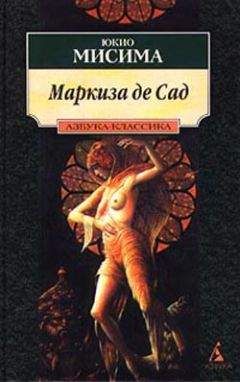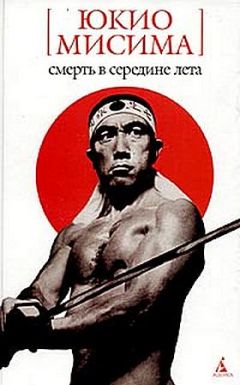были поверхностны и холодны. «Интересно, – подумала Цунэко, – что́ на моем месте сделал бы какой-нибудь студент, ученик профессора, если бы чувствовал то же, что я сейчас?» Наверное, накинулся бы на своего учителя, как разъяренная волна, – которая, впрочем, даже в таком состоянии не забывает о манерах, – а тот, в свою очередь, ответил бы на этот душевный бунт мягко и с пониманием.
Цунэко порывисто вскочила и, прижав книгу к груди, торопливо вышла из комнаты. Пробежав по коридору, она, как того требовали приличия, опустилась на колени у двери в комнату профессора и перед тем, как отодвинуть створку, спросила:
– Извините, можно войти?
– Да, – послышался с той стороны высокий голос, который мог принадлежать как мужчине, так и женщине.
Цунэко открыла дверь, поднялась с колен и вошла в комнату.
Профессор сидел за низким столом под вентилятором и, как намеревался, читал, придерживая пальцем разлетающиеся страницы пухлого тома.
– Я пришла вернуть вам книгу.
– Ты ее прочла?
– Да… то есть нет.
– Если ты ее не прочла, можешь пока не отдавать. Пусть побудет у тебя до конца поездки.
– Хорошо.
Цунэко видела, что ее двусмысленные ответы раздражают профессора, но, прежде чем он сделал ей выговор, она опустилась перед ним на татами и сказала:
– Учитель, я больше не могу писать стихи.
– Почему? – Чем больше он удивлялся, тем невозмутимей звучал его голос.
– Это бесполезно. Как бы я ни старалась… – Она еще не договорила, а слезы – первые слезы, пролитые за эти десять лет в присутствии профессора, – хлынули из глаз.
Вполне вероятно, что профессор с тайным нетерпением ожидал от этого путешествия подобных маленьких удовольствий, на которые в обычное время рассчитывать не мог. Стекла его очков сверкнули с каким-то мальчишеским лукавым задором, хотя голос оставался спокойным, а лицо строгим.
– Послушай. Нельзя просто взять и бросить все на середине. Так не делают. Ты тоже нечасто даешь волю чувствам, но тебе еще есть чему поучиться у Эйфуку Монъин. Ее поэзия учит нас понимать, насколько важно в искусстве уметь скрывать свои чувства. Заметь, такое субъективное искусство, как поэзия, не исключение. Современные поэты, к сожалению, не придерживаются этого важного принципа. Я тоже, увы, попал под дурное влияние и пишу теперь то, что пишу. Вот почему я дал тебе этот сборник – чтобы уберечь хотя бы тебя от ошибки, которую совершил сам. Поэтому ты не должна так реагировать. Вот, посмотри, – продолжил он. – Кажется, что Эйфуку Монъин не вкладывает в свои стихи никаких чувств…
Профессор в поисках примера пролистал книгу, которую Цунэко положила на стол перед ним.
– Вот, возьмем, к примеру, это стихотворение, написанное на тридцатом поэтическом турнире, проводившемся во второй год эпохи Кагэн [56].
безлунная ночь
вот-вот займется рассвет
в дождливом небе
призрачный свет светлячка
под застрехой мерцает
– В этом точном, фотографичном описании тем не менее присутствует некий пафос, призванный выразить личную грусть автора, которая скрывается за внешней красотой и яркостью ее жизни. Она была так чувствительна и ранима, что ей приходилось тщательно скрывать свои чувства, и в результате появились эти поэтические описания, очень сдержанные, но в то же время намекающие на нежную силу ее чувств. Тебе так не кажется?
Все, что он сказал, было, разумеется, верно. Цунэко как никогда остро ощутила, что не может открыться профессору; она затихла, прислушиваясь к тому, как в глубине ее души крепнет какое-то новое чувство. Фудзимия так и не обмолвился о трех самшитовых гребнях. А ведь лиловый сверток бережно хранился в кармане пиджака, который он отдал ей с таким невинным выражением лица. И она, разумеется, с радостью приняла эту ношу, осторожно держала пиджак перед собой, чтобы не закапать по́том, не запачкать, когда едва не умерла, под обжигающим солнцем поднимаясь по лестнице из четырехсот ступеней… Эта мысль выводила Цунэко из себя.
Тем не менее вечер прошел без неприятных сюрпризов; на следующее утро они встали пораньше и по прохладе отправились в Хаятама Тайся. Главным божеством этого святилища, как сказал профессор, считался Идзанаги-но микото, но в «Анналах Японии» был отрывок, из которого следовало, что речь не о самом Идзанаги-но микото, а о боге, появившемся из его слюны. Слюна символизировала душу, поэтому рожденное из нее божественное создание было связано с погребением и погребальными обрядами. Это объяснение, наряду с почтением и любовью, озарявшими лицо профессора, пока он закапывал в землю второй гребень, наводили на мысль, что владелица давно покинула мир живых.
Цунэко, которая со вчерашнего дня не могла выбросить из головы мысли о свертке и его содержимом, вспомнила свой сегодняшний сон. В этом сне Эйфуку Монъин и хозяйка гребней слились в один туманный образ – прекрасной, благородной, неземной женщины. Прическу красавицы венчали три самшитовых гребня. Бледное скорбное лицо то скрывалось из виду, то появлялось, словно выныривая из глубин хвойного леса, мелькало между стройными стволами криптомерий Кумано. Шлейф ее одеяния стелился вокруг, как ночь, летел за ней, взмывал в темное небо. Цунэко не знала, что это за наряд, но почему-то подумала, что, наверное, именно так выглядело облачение Эйфуку Монъин. Высокий воротник из множества слоев обрамлял светлое, как луна, лицо. Шелк – это белый узорчатый шелк, вдруг поняла Цунэко; но тут забрезжил рассвет, и таинственное одеяние постепенно окрасилось в лиловый, характерный для траурного платья цвет.
«Лиловый сверток!» – подумала Цунэко, и видение исчезло.
Утром она увидела сверток в святилище Хаятама Тайся. В отличие от предыдущего места, здесь было очень шумно: красные стены вибрировали от назойливого звука, похожего на визг электропилы, – шумели пароходы, курсирующие по реке Кумано позади храма.
В таком шуме профессору было проще исполнить задуманное: едва гребень с иероглифом «ё» показался из лилового свертка, как сразу был предан земле и теперь покоился под корнями в зарослях кустарника.
Из трех остался один. С иероглифом «ко», «дитя».
Профессор бережно обернул гребень лиловой тканью, спрятал его в карман пиджака, затем молча, даже не взглянув на Цунэко, которая смотрела на него вопросительно, развернулся к ней устало ссутуленной спиной и направился к выходу из сада.
Эйфуку Монъин интересовала профессора не только из-за своего поэтического таланта, но еще и потому, что антология «Собрание драгоценных листьев» появилась в тот период, который сыграл огромную роль в дальнейшем развитии эзотерической традиции стихосложения, связанной с антологией «Кокинсю».
Значимость этой традиции с самого начала была связана с политическим соперничеством. Раскол, из-за которого образовались два императорских двора,