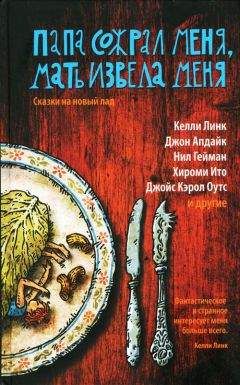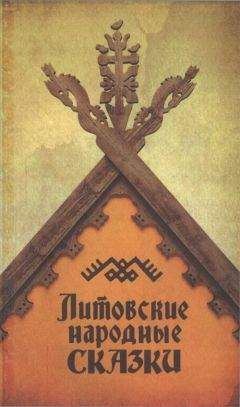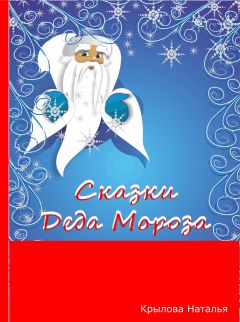Ни злорадства, ни печали не было в ней, когда до нее дошли новости, что Ева стала ведущей популярной программы «Шикарные бегства» — одна, а программу Рея сняли с эфира. Ни злорадства, ни печали не было в ней, когда услышала она об их разводе. Когда бы ни бралась за трубку позвонить ему, всякий раз слушала сплошной гудок и не набирала номер.
Он послал ей единственное слово — «ЧУДЕСНО» — печатными буквами на жесткой открытке, на третью годовщину ее шефства в «Уздечке», когда «Кроникл» написал статью о ней и о том, что она выиграла мишленовскую звезду.
Он похоронил отца. Унаследовал мало что. Он смотрел какую-то телепрограмму — и с удивлением узнал, что ныряльщики ама могут много лет жить вроде бы в полном порядке, но вдруг, внезапно, под старость, у них глаза наливаются кровью, а органы лопаются.
Наконец-то Мередит отнесла свою заплесневевшую Тралю-Лялю в кукольную больницу на перекресток Хайд и Пайн. Мужчина, смахивавший на портного из детской сказки, отложил в сторону тело из бисквитного фарфора, которое клеил, и поздоровался с Мередит, а она выпалила: «Почему девочкам нравится отрывать Барби головы?» Кукольный доктор рассмеялся и сказал: «Ух, это мне и самому интересно». Они обменялись шутливыми предположениями: потому что у них шейки тощие! Потому что голову метать проще — за волосы! Все это — не эпохально, ничего в этом не было жизненно важного или даже космически комичного, и потому она сберегла в памяти этот эпизод — он ближе к жизни как она есть.
Бог — во всем, но его больше в сердцевине всего. Бог — всего в шаге от обыденного, но еще больше — в центре этого нового радиуса шага.
В Музее современного искусства, глядя снизу на стеклянный мост, она видела очертания детских ступней. Они остановились. Наверное, страшно идти над такой высотой. Ступни побольше ожидали рядом с детскими. Неподвижны. Мередит отчетливо ощущала, как порезы превращаются в жабры, на дне этого моря она могла бы дышать вечно. Давай, давай, все хорошо, вот увидишь, говорит она в небеса, ребенку. И тогда четыре ступни преодолели вместе стеклянный мостик. Мередит ушла из музея омытая, освеженная.
В Чаттануге, на конференции по новой американской кухне, она сходила в Галерею живого искусства, где была устроена кровать для желающих поспать среди медуз. Пульсирующие лунные медузы, прозрачные розовые платки, словно парасольки. Живая вода. О, Аннетт! Не ты ли говорила, что сила рождается из движения в море? Не ты ли писала, что хоть ты и русалка в кино, но все еще алчешь увидеть настоящую русалку, на камне, и чтоб расчесывала длинные зеленые волосы?
Она столкнулась с ним во Дворце Почетного легиона, рядом с Роденовым «Мыслителем». Волосы у него поредели. Он вернулся к готовке, сказал, работает теперь в ресторане со смешанной кухней, в районе Миссии. Ева стала звездой телесети, живет с высокопоставленным юристом. «А», — ответила Мередит. Он не унизил ее мольбой о прощении. Кулаки сунул в карманы куртки. Она взяла его за локти. Он заглянул ей в глаза так, как никогда толком не удавалось. Она не знала, как ему сказать о ее собственном романе, чтобы не вышло, будто она сводит с ним счеты — или спускает с крючка. Поэтому говорили они мало. Но взгляды их говорили о единстве — без сказочного окончания: она с кем-то встречается, он — тоже. Но теперь, может, он время от времени мог бы звонить ей, разговаривать, и она бы с радостью отвечала ему.
В юные годы вкусы у нее были барочные. Французские гобелены. Слоеные торты. Теперь ей хотелось простоты. Консоме. Эссенции.
Мередит Лок перешла из возраста средних лет в более-зрелый-но-все-еще-относительно-свежий. Ноги у нее покрылись сеткой варикозных вен из-за жизни стоймя, но она сохранила за собой пост шеф-повара и мишленовскую звезду, пока ей не стукнуло пятьдесят восемь. Без страха, без горечи она приняла весть о том, что, несмотря на регулярные осмотры, у нее развился рак груди, с метастазами. Просто пришло ее время. Вот и всё.
Рей Лок перешел на работу в другой ресторан — латиноамериканское заведение с кобальтово-синими стенами. Такова будет его судьба — скакать с места на место. Но пока он жил со школьной учительницей, которая дружила с Мередит и понимала, как жизнь скручивается, сворачивается кольцами и хватает себя за хвост. Она отправила Рея заботиться о Мередит — а потом снова примет к себе.
И вот они опять были вместе — ненадолго. Боли ее к тому времени стали невыносимы.
Он принес ей подарок, который купил в Спрингфилде, Иллинойс, сто лет назад, но так и не использовал: кулинарную книгу Гражданской войны. У нее в квартирке на Грин-стрит он приготовил бланманже из жемчужного мха. «Ты единственный человек на этой планете, кому это может понравиться, — сказал он. — Я люблю тебя. Обожаю тебя, знаешь». Ее улыбка, темные круги у глаз, бирюзовый шарф на голове. Давным-давно, в середине XIX века, водоросль эта могла добраться до аптекаря где-то на Среднем западе и стоить совсем недорого. Ее продавали как целебную людям с хрупким телосложением. Жемчужный мох предписывалось тщательно мыть и кипятить, и он добавил лишь горсть в молоко, а еще — горький миндаль, сахар, корицу и мускатный орех. Кормил ее с ложечки. «Мой драгоценный», — говорила она.
В конце концов всяк обращается в атомы. Ее роман с балеруном — чем он отличался от того, что был у Рея с Евой? Эта жажда величия, свободы, высшего света. Бог, глядя вниз, мог усмотреть здесь некое уравненное математическое выражение. И впрямь, не странно ли, что страсть должна отступать с долгим знакомством, и все-таки люди рождаются с желанием найти Того Единственного? Не есть ли это величайшая человеческая дилемма? А если человек нацелился обрести Бога в физическом, чтоб возросло желание тела? Что за бред отделять любовь Божью от телесной любви человеческой.
Обнявшись, Рей и Мередит стояли у кромки воды в парке «Край света». Благословенна будь Аннетт Келлермен, сказавшая, что вода учит скромности души: она весело заметила, что «оставив берег позади, я будто бы все уменьшалась, пока не стала всего лишь пузырьком и испугалась, что пузырек этот лопнет».
Но оба они уже были за пределами слов.
Он обнял ее, она — его. Он склонился поцеловать ее в тот самый миг, когда она запрокинула голову встретиться с ним в неторопливом поцелуе.
Поцелуе их жизни.
Соленый воздух. Море спешит прикрыть их босые ноги кружевами пены. Крабы отдыхают под мокрым песком, их дыхательные отверстия — как соломинки, чтобы пить прибой. Прибой нескончаем в своих приходах и уходах, исполнен опасности, хоть и вполне владеет тем ритмом, что любим от начала времен — за то, как баюкает он тело ко сну.
* * *
Я без ума от Аннетт Келлермен. И всегда была. Она известна как «Русалка за миллион долларов», танцевала ею самой поставленный балет в аквариумах с водой, и отчасти благодаря ей возникло синхронное плавание. Слава и богатство (и любовь всей жизни, да) — побочные продукты. Роскошная, шокирующая, изобретательная, артистичная, она — сон, бездыханный, плавучий, переполненный радостью того, как ее погружение запечатлевает чистоту каждого мига. Земля и люди на ней, что все время толкаются, — вот от чего она жаждала бежать. Она была очень отсюда — и очень из другого мира.
Как-то раз я пошла плавать после болезненно долгого перерыва без бассейна, и моя радость от пребывания в воде помогла «Русалочке» всплыть в моем сознании — как истории, которую я бы с удовольствием изобрела заново. По многу часов я могла оставаться в мире Аннетт. Наверное, вот так прост мой выбор сказки.
Я перечитала оригинал Ханса Кристиана Андерсена, и — о господи! — по-моему, принц либо чудовищно жесток, либо поразительно туп. Поначалу я хотела выдумать умного, заботливого мужского героя, даже с поправкой на то, что он делает катастрофическую ошибку, путая любовь с погоней за красивой идеей. Некоторым критикам не нравится то, что они воспринимают Андерсенов добродетельный финал и его мучительное описание немой женщины, жертвующей собой ради легкомысленного богатого юноши, но меня вполне захватило, насколько сильно его история — о классическом любовном треугольнике, таком, что избегает традиционно счастливой (сказочной) развязки: разбитая, сверхтерпеливая, безответная женщина умирает за любовь и не может объясниться, а сама наблюдает, как мужчина (с которым она делила глубокую дружбу) заменяет ее на идеал посвежее и помоложе.
Эта история стара как мир. От нее я и танцевала. В сердце Андерсеновой поразительно меланхоличной истории — борьба за уравновешивание смертных желаний и поиска бессмертия, вечности — как бы мы это ни называли. Во мне есть глубинное сострадание — оно есть у всех нас — сущностной дилемме желания, чтобы страсть, любовь и дружба с одним человеком росли, а не отмирали лишь потому, что время прошло. Много чего можно сказать и о борьбе с потребностью отделять человеческую любовь от того, что мы склонны звать святым.