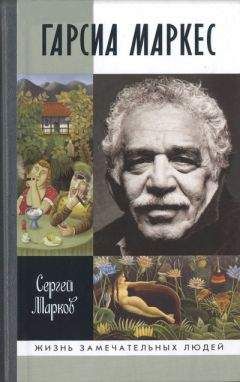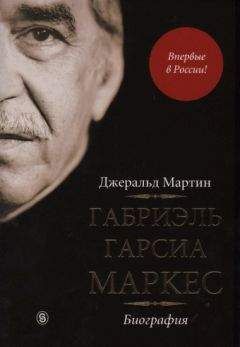Ознакомительная версия.
Это была дьявольская кровавая вакханалия, круговерть чудовищной смерти, клубок собачьих тел, из которых на краткий миг с мольбой простирались руки то Летисии, то мальчика; но очень быстро обе жертвы превратились в куски с жадностью пожираемого мяса; и все это происходило на глазах у рыночной толпы, на глазах сотен людей; лица одних были искажены ужасом, другие не скрывали злорадства, а кто-то плакал от жалости; но вот все кончилось, и все увидели, что на земле валяется шляпа Летисии Насарено, украшенная фетровыми фиалками; оцепеневшие от ужаса, забрызганные кровью идолоподобные зеленщицы беззвучно шептали: «Боже мой, этого бы не случилось, если бы генерал этого не хотел!» Так это произошло к вечному позору президентской гвардии, которой удалось спасти только обглоданные добела кости, подобрать их среди окровавленных овощей, – «Одни только белые кости, мой генерал!» Правда, кроме костей были найдены и подобраны медали мальчика, его сабелька карточного короля, сафьяновые туфли Летисии Насарено, неведомо почему всплывшие в бухте, на расстоянии целой мили от рынка, были найдены бусы из цветных стекляшек и кошелек, сделанный из куска кольчуги, – «Эти вещи мы вам и вручаем, мой генерал, а также три этих вот ключа, обручальное кольцо из почерневшего золота и эти пятьдесят сентаво – пять монет по десять сентаво каждая. Вот, сосчитайте, пожалуйста! А больше ничего от них не осталось!» Ему было бы абсолютно все равно, что от них осталось, если бы он мог предвидеть, что всего лишь через несколько лет он начисто забудет о том, что случилось в ту роковую среду, но тогда он рыдал от ярости и не спал всю ночь, страдая от воя переловленных и посаженных на цепь собак-людоедов; он никак не мог решить, что с ними делать, ибо был повергнут в смятение мыслью о том, что казнь собак может оказаться повторным убиением Летисии и мальчика, находящихся в собачьих чревах; он приказал снести железный павильон овощного рынка и разбить на его месте сад с магнолиями и перепелками, а посреди сада воздвигнуть мраморный крест; крест сей должен был быть выше маяка и сиять ярче его, дабы увековечить в памяти грядущих поколений историческую женщину, которую сам генерал забыл гораздо раньше, чем был разрушен памятник; его взорвали однажды ночью, и никого не возмутил этот взрыв, а магнолии были сожраны свиньями; сад превратился в сточную вонючую лужу, но генерал никогда не увидел этого не только потому, что приказал своему личному шоферу объезжать стороной то место, где располагался некогда овощной рынок, даже если объезд будет длиной с кругосветное путешествие, но и потому, что не показывался в городе с тех пор, как переселил все свои министерства в здания из солнечного стекла и остался во дворце один с горсткой прислуги; дворец перестал походить на дворец, ибо он приказал, чтобы в нем не осталось и следа королевских претензий Летисии Насарено; он бродил в одиночестве по безлюдным коридорам и пустым покоям, без цели, без дела, лишь время от времени давая незначительные указания генералитету или принимая участие в заседании совета министров, на котором решался какой-либо трудный вопрос и для принятия окончательного решения требовалось мнение президента; кроме того, ему приходилось терпеть визиты зловредного посла Уилсона, который, расположившись в тени сейбы, задерживался у него допоздна, угощал его конфетками из Балтиморы, совал ему журнальчики с фотографиями голых женщин, стараясь под сурдинку уговорить его отдать территориальные воды страны в счет погашения громадных процентов внешнего долга; он давал послу выговориться, то слыша все, о чем тот говорит, то ничего не слыша – в зависимости от того, выгодно ему слышать или невыгодно; когда же словоизвержение посла становилось слишком докучливым, его собеседник пропускал весь этот поток слов мимо ушей, прислушиваясь, как в расположенной неподалеку женской школе хор девочек поет о рябенькой пташечке, что сидит на зеленом деревце; с наступлением сумерек он провожал посла из патио, пытаясь объяснить своему гостю, что тот может требовать абсолютно все, кроме моря, – «Как я останусь без моря под окнами? Что я буду делать один, без него, в этом огромном доме? Что станется со мной, если завтра я не увижу его в этот же час заката, когда оно похоже на пылающее болото? Как я буду жить без декабрьских ветров, которые с воем врываются в разбитые окна, без зеленых сполохов маяка, – я, кто покинул туманы своего плоскогорья и, подыхая от лихорадки, ринулся в пекло гражданской войны вовсе не из патриотических чувств, как пишут об этом во всех биографических словарях, и вовсе не из авантюризма, как утверждают некоторые, и уж тем более не из-за федералистских идей, да пребудут они в священном царствии божьем, а исключительно ради того, чтобы увидеть море! Все остальное фигня, мой дорогой Уилсон, так что придется вам придумать что-нибудь другое». И он прощался с послом, легонько потрепав его по плечу. Проводив посла, он брел в свое обиталище, зажигал свет в пустынных кабинетах былых ведомств и однажды вечером вдруг увидел заблудившуюся в коридорах корову, погнал ее к лестнице, животное зацепилось копытами за дырявую ковровую дорожку и кубарем покатилось вниз по ступенькам, раскроив себе череп к неописуемой радости изголодавшихся прокаженных, которые бросились тут же разделывать тушу, – все прокаженные, паралитики и слепцы вернулись после смерти Летисии Насарено и вновь обитали в саду, среди одичавших розовых кустов, снова вымаливали у него щепотку целительной соли, пели звездными ночами песни, и он сам пел с ними песенку давних славных времен: «Сусанна, приди ко мне, Сусанна!»; в пять часов пополудни он подглядывал из окошка коровника, как возвращаются из школы девочки в голубеньких передничках, в гольфиках, с косичками, и, млея от похоти, манил их к себе, поигрывая за железными прутьями окошка тряпичными пальцами перчатки: «Девочка, девочка, иди-ка сюда, дай я тебя пощупаю!»; «Мама родная! Мы убегали от него, как от призрака с чахоточными глазами!»; он же, видя, как они убегают, сокрушенно думал: «Мать моя Бендисьон Альварадо до чего молоды нынешние девчонки!»; ему ничего не оставалось, как посмеиваться над собой, считая себя ни на что не годным, но когда его персональный лекарь, его министр здравоохранения, которого он постоянно приглашал к обеду, решил не ограничиваться осмотром глаз и проверкой пульса, а прописал ему микстуру от старческого склероза, дабы закрыть сточные трубы его памяти, он послал своего лекаря в задницу, – «Стану я пить какую-то микстуру! Я, человек, который никогда ничем не болел, кроме как лихорадкой в годы войны!»
Он стал обедать в полном одиночестве, отрешенный от всего мира, повернувшись спиной ко всему белому свету, – большой эрудит посол Мейриленд подсказал ему, что так обедали марокканские короли; он обедал, стараясь сидеть прямо, с высоко поднятой головой, держа вилку в левой руке, а нож в правой, тщательно пережевывая пишу в соответствии со строгими правилами позабытой своей наставницы; затем он обходил весь дворец в поисках тайников, где были спрятаны банки с медом, но, обнаружив тот или иной тайник, через пару часов забывал, где он находится, начинал новые поиски и между делом находил засунутые в щели, словно окурки сигарет, свернутые в трубочку полоски бумаги, которые когда-то были полями конторских книг, – давным-давно, в другую эпоху, он обрывал эти поля, чтобы записать на них то, о чем сам он уже не сможет вспомнить спустя многие годы. «Завтра вторник», – было написано на одной из полосок, а на другой он прочитал: «На твоем белом платке вышиты красным инициалы одного имени, но это не твое имя, мой властелин», – он ничего не понял и с удивлением прочитал на следующей бумажке: «Летисия Насарено моей души, посмотри, что стало со мной без тебя», – «Летисия Насарено» – это имя встречалось почти на каждой бумажке, и он никак не мог взять в толк, кто это был так несчастлив, что оставил после себя столько письменных вздохов, – «И при чем здесь мой почерк, черт подери?» Но это был его почерк, неповторимая каллиграфия левши, украшавшая к тому времени стены нужников, где он писал для собственного успокоения: «Да здравствует генерал!» Он уже не гневался на себя за то, что стал слюнтяем, что опустился ниже любого военного сухопутных войск, флота или авиации, что распустил нюни из-за монастырской послушницы, от которой только и осталось что имя, записанное карандашом на узких полосках бумаги; он просто не помнил ничего из того, что было до и после роковой среды, после того, как он отказался даже притронуться к вещам Летисии и мальчика, к тем вещам, которые адъютанты положили на его письменный стол; глядя в сторону, он приказал: «Унесите эти туфли, эти медали, унесите все, что может напомнить мне о покойниках». И все, что им принадлежало, было унесено в спальню Летисии, в спальню, где прошли безумные сиесты его страсти, – «Забейте там все двери и окна, черт подери, и не смейте входить туда, даже если я сам прикажу вам войти!» Отдав этот приказ, он долгие месяцы корчился в судорогах ужаса, слушая, как воют на цепи собаки, сожравшие Летисию и мальчика, но не решался приказать, чтобы их отправили на живодерню, ибо думал, что любой вред, причиненный собакам, причинит боль дорогим покойникам; он забивался в гамак, стараясь забыться, стараясь унять свою ярость, ибо знал, кто были истинные убийцы его кровных; он вынужден был терпеть унижение, видя убийц в своем собственном доме, но в то время он ничего не мог с ними поделать, чувствовал себя униженным, но вынужден был терпеть их, потому что в то время недоставало его власти, чтобы свернуть им шею; он не стал устраивать никаких похорон, запретил являться к нему с выражением соболезнования, не объявлял траура, – ждал своего часа, качаясь в гамаке злобы под сенью гигантской сейбы; там, под этой сейбой, последний его закадычный приятель сказал ему, выражая мнение всего генералитета, что, мол, генералитет гордится тем достоинством и выдержкой, с какими народ перенес эту ужасную трагедию – всюду царят спокойствие и порядок. Он чуть заметно усмехнулся: «Не говорите глупостей, дружище! В том-то и дело, что спокойствие, в том-то и дело, что порядок! Людей ни фига не взволновало это несчастье». Он перечитывал газету от корки до корки, и слева направо, и справа налево, пытаясь найти в ней нечто большее, нежели официальные сообщения правительственного пресс-центра, велел поставить радиоприемник рядом с собой, чтобы не пропустить важных известий, и наконец дождался: все радиостанции, от Веракруса до Риобамбы, передали сообщение о том, что служба национальной безопасности напала на след организаторов покушения. «А как же иначе, тарантуловы дети!» – пробормотал он, а радио сообщало далее, что организаторы покушения обнаружены в одном из пригородных публичных домов, на который обрушен огонь минометов. «Вот так, – вздохнул он, – бедные люди!» Однако он оставался в гамаке, совершенно непроницаемый, ни единым проблеском не выдавал того, что замыслил, молясь про себя: «Мать моя Бендисьон Альварадо сохрани мне жизнь для мщения веди меня за руку мать вдохнови меня!» Он был настолько уверен, что мать услыхала его мольбы и вняла им, что полностью овладел собой и справился со своим горем, – это и увидели ответственные за общественный порядок и национальную безопасность офицеры генерального штаба, которые явились доложить ему: «Мой генерал, трое организаторов покушения убиты в перестрелке с силами охраны порядка, двое схвачены и находятся в камерах Сан-Херонимо!» Сидя в гамаке с кувшином фруктового сока в руках, он сказал: «Ага», – и твердой рукой хорошего стрелка налил им всем по стакану сока. «Он был воплощением мудрости в большей степени, чем когда-либо раньше, и был чуток, как никогда, настолько чуток и внимателен, что угадал наше желание и разрешил нам всем закурить. Это было неслыханно – разрешить нам курить при исполнении служебного долга!» «Под этим деревом все мы равны», – сказал он и спокойно выслушал подробный доклад о том, как было задумано и осуществлено преступление на рынке, как из Шотландии отдельными партиями были привезены восемьдесят два щенка охотничьей породы, из которых двадцать два подохли по разным причинам, а остальные шестьдесят были должным образом натасканы шотландским собаководом, который в преступных целях привил им лютую ненависть не только к чернобуркам Летисии Насарено, но и к ней самой, а также к мальчику, – «Собак натаскивали, пользуясь вот этими предметами туалета, мой генерал! Им давали нюхать украденное из дворцовой прачечной вот это белье, вот этот корсаж Летисии Насарено, вот этот ее платок, вот эти чулки, вот этот мундир мальчика, мой генерал! Вы узнаете все эти вещи?» Он даже не глянул на то, что ему показывали, лишь сказал: «Ага!» – и внимательно слушал дальнейшие объяснения: «Этих шестьдесят собак приучали не лаять в тех случаях, когда они не должны лаять, приучали их к человечине, мой генерал, держали их взаперти, в полной изоляции от света божьего; их натаскивали несколько лет на заброшенной китайской ферме в семи милях от столицы; на этой ферме имелись чучела Летисии Насарено и мальчика, сделанные в натуральную величину и обряженные в их одежды, кроме того, собак учили узнавать мальчика и Летисию в лицо, постоянно показывая им вот эти портреты и эти газетные фотографии». И военные показали ему альбомы, на страницах которых были расклеены те фотографии, чтобы он оценил, какую огромную они провернули работу, эти гладкие боровы, – «Каждый делает свое, мой генерал!» Но он, не глядя на них, обронил только свое «ага», и тогда они сказали ему самое главное: что, разумеется, заговорщики действовали не сами по себе, что они – агенты тайной организации, чей центр находится за границей, – «Вот их эмблема, ваше превосходительство!» И они показали ему эмблему заговорщиков – скрещение гусиного пера и кинжала, а он сказал: «Ага!» Они же продолжали свой доклад, из которого явствовало, что все заговорщики давно скрывались от органов правосудия, боясь ответственности за ранее совершенные уголовные преступления. И они показали ему альбом, где были помещены фотокарточки заговорщиков, взятые из полицейских досье: «Вот эти трое – убиты, а эти двое схвачены и сидят в подземельях Сан-Херонимо, мой генерал! Как поступить с ними – решение принадлежит вам! Это братья Маурисио и Гумаро Понсе де Леон, двадцати восьми и двадцати трех лет. Первый из них дезертировал из рядов вооруженных сил, постоянного места жительства не имеет и является лицом без определенных занятий; второй преподавал керамическое дело в ремесленном училище; увидев этого человека, собаки, о которых идет речь, виляли хвостами от радости и всем своим поведением выказывали ему свою преданность, что является несомненным и неопровержимым доказательством его вины, мой генерал!» Но он и тут только и сказал что свое «ага», однако, подводя в официальной сводке итоги дня, с похвалой отозвался о трех высших офицерах, проводивших расследование, и наградил их почетной медалью «За верную солдатскую службу родине»; он сам вручил им эту медаль и тут же, на торжественной церемонии награждения, учредил военно-полевой суд, который приговорил братьев Маурисио и Гумаро Понсе де Леон к расстрелу, – «Приговор должен быть приведен в исполнение по истечении сорока восьми часов с момента его оглашения, если, конечно, ваше превосходительство не помилует осужденных».
Ознакомительная версия.