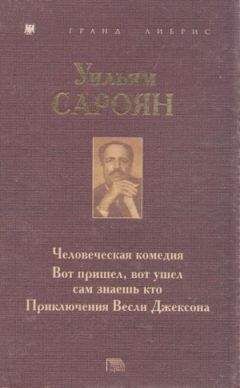А писатель говорит:
- Я лучше большинства, но он лучше меня. В девятнадцать лет я и наполовину не был таким писателем, как он. Вы о нем еще услышите, если он останется жив.
Его спрашивали, что он думает об англичанах, и он говорил:
- Англичан я всегда любил, и теперь люблю их еще больше.
Им хотелось бы знать почему, и он отвечал:
- Потому что я их знаю теперь немножко лучше. Они не лучше и не хуже других народов, но я их люблю чуточку больше других за их писателей. Я терпеть не могу их политических деятелей, но люблю их писателей.
Время от времени он давал мне задание написать короткий рассказ - он отводил мне на это три часа, - а потом прочитывал рассказ вместе со мной и объяснял, что в нем хорошо и что плохо, и таким путем многому меня научил. Он говорил, чтоб я не считал себя невеждой только оттого, что я не ходил в университет. Он утверждал, что это совсем не так, а вот в моих писаниях нет-нет да и проглянет сомнение в своих силах. Я ему объяснял, что это выходит как-то само собой, а он говорил, что такого нельзя допускать. Пусть только правильные вещи происходят сами собой. Чем больше человек допустит правильного и чем меньше неправильного появится на свет при его попустительстве, тем лучшим он станет писателем и, что еще важнее, тем лучше сделается сам. Единственное, что ценно в писательстве, - это то, что оно облагораживает прежде всего самого писателя, а отсюда уже способствует моральному росту читателя.
Так изо дня в день я узнавал от него все больше полезного, но и я не сидел да слушал молча все, что он мне говорил. Слушать-то я слушал во все уши, но и у меня являлись свои собственные мысли, и чаще всего они ему нравились.
Всякий раз, когда его спрашивали, пишет ли он сейчас что-нибудь, он говорил, что не пишет; когда его спрашивали почему, он отвечал, что не может, потому что носит военную форму, - он подождет, пока война кончится; вот уж тогда хватит времени и на писание. А когда его спрашивали, не собирается ли он написать о войне или об армии, он говорил:
- Ради бога, не задавайте глупых вопросов. Я не журналист, я поэт. Я пишу обо всем.
И люди не знали, как это принять, потому что весь свет только и говорил что об американских писателях и газетчиках, которые пишут книги о войне. Не было американского газетчика в Лондоне, который не выпустил хотя бы одной книги о войне. Многие из них напечатали по две и по три, а вот этот чудак писатель ждет, когда война кончится.
Он говорил, что ждет, пока кончится вся эта истерика, и тогда он сможет приняться за работу с того самого места, на котором его прервали. Он говорил:
- Самый истеричный народ в мире - это американцы, ужасно наивный и легко возбудимый. Чем спокойнее они с виду, тем нервознее на самом деле.
ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ
Писатель решает проблему, как поступить с немецким народом
Вскоре начались новые литературные события. Стали устраивать литературные конференции при участии офицеров высшего ранга. Мы с писателем всегда приезжали, и я слушал все, что там говорилось. Писатель был совершенно прав: внешне спокойные, все эти люди ужасно нервничали.
Первая встреча состоялась за обедом, который сопровождался неофициальным обменом мнений. Мы с писателем были единственными рядовыми среди присутствующих. Остальную компанию составляли старшие офицеры, начиная с капитанов и кончая полковниками, и множество штатских, иные из которых были гораздо моложе нашего писателя - окопавшиеся в тылу молодчики, на казенных хлебах и с большими деньгами, которым и делать- то было нечего, как только есть да болтать языком. Мне совсем не хотелось ходить на такие собрания, но писатель сказал, что я обязан сопровождать его всюду, где он должен бывать по службе. Это мой долг перед ним, говорил он. Вся эта музыка чересчур утомительна для одного человека.
Так вот на этом первом собрании все наелись до отвала, потом появились бутылки и началась выпивка. Атмосфера была приятная, полная неподдельной сердечности. Молодой штатский, руководивший совещанием от имени английскиого правительства, поставил на обсуждение следующий вопрос: "Как быть с Германией после войны?"
Наш писатель держал язык за зубами так долго, как только мог. Я видел, каким несчастным он себя чувствовал среди чванных болтунов, ибо все эти людишки в военном и в штатском, никогда в своей жизни ничем путным не занимавшиеся, да и сейчас ничем серьезно не интересующиеся, разыгрывали настоящую комедию, пыжились и важничали необычайно. И эти хвастунишки и пустомели взялись рассуждать о том, что делать с пятьюдесятью или шестьюдесятью миллионами человек. Все их предложения звучали просто чудовищно. Послушать их, так все немцы - сплошь преступники.
Наконец кто-то неосторожно спросил писателя, каково его мнение.
Писатель оглядел всех присутствующих. Я сразу увидел, как он сердит, но он начал спокойно.
- Единственное, что можно сделать, это перебить их всех, одного за другим, пока ни одного в живых не останется. Слишком сложна проблема для всякого иного решения, по крайней мере в настоящем собрании.
Все молчали, и он продолжал:
- Позвольте спросить, почему мы вообще обсуждаем эту проблему и кто нас об этом просил? Ибо если подойти к делу серьезно - а мы делаем вид, что это так, - то эта проблема потребует огромной напряженной работы всех лучших людей Америки, работы, которую нельзя завершить ни в пятьдесят, ни даже может быть, в сто лет, и я не думаю, чтобы наша страна жаждала взять на себя такую ответственность. А если она и готова взять на себя эту ответственность, боюсь, что лично я не смогу разделить ее ни в какой степени, так как у меня несколько иные планы на будущее. Прежде всего, я думаю, такая работа настолько значительна, что должна привлечь усилия людей, более к ней подготовленных, чем мы с вами. Если же мы здесь собрались, чтобы есть, пить и разговаривать, и разговоры наши не следует принимать всерьез, то я предложил бы лучше обсудить, что нам самим делать после войны, ибо тут мы все сможем с большим успехом использовать наше время и силы, чем в приложении к той проблеме, которая, как мне кажется, должна решаться самим немецким народом. Есть среди присутствующих хоть один немец?
Я было думал, что такими речами он навлечет на себя кучу неприятностей, но ничуть не бывало, ничего не произошло - все тотчас же забыли, о чем он говорил, и продолжали молоть всякий вздор, толочь воду в ступе, как говорится. Я уже здорово был на взводе к тому времени, так что мне было на них наплевать. Я знал, что им все равно не справиться и с самими собой, не говоря уже о немцах, и поэтому не принимал никакого участия в их трескотне, хотя тот парень, что задавал обед от имени правительства, то и дело справлялся о моем имени.
Я ему только отвечал: "Да ну вас всех... не приставайте!" - и все подливал и подливал себе.
Из этой первой встречи я многое узнал о людях подобного типа, которые пытаются изобразить из себя представителей целой нации - в данном случае американцев, - а в самом деле, насколько я понимаю, принадлежат к представителям низшей разновидности человечества. Людей, которым претит все это кривлянье и многоглаголание, не больно-то, видно, тянет к государственной деятельности.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ
Ребята снимают квартиру на Пэл-Мэл, Весли пишет письма и получает от своего дяди Нила письмо, полное хороших новостей
В один прекрасный день Джо Фоксхол нам сказал, что достиг взаимопонимания с сержантом, и если мы сумеем подыскать квартиру и если мы четверо хотим жить вместе и делить между собой расходы, то можем переехать туда из казармы и обрести, таким образом, немножко больше свободы. Нам всем хотелось остаться вместе, так что мы тут же взялись за поиски жилища и через два дня переехали в квартиру из трех комнат: гостиная, две спальни с двумя кроватями в каждой и прекрасная большая ванная с душем. Мы с Виктором заняли одну спальню, Джо с писателем - другую, а гостиная была общая для всех. Все получилось отлично. Этот дом назывался Локсли Мэншн. Когда-то это был прекрасный особняк. Он помещался на Пэл-Мэл, улице лондонских клубов, в двух кварталах от Сент-Джемса справа и в двух от Трафальгар-сквер слева.
Джо ухитрился выменять у одного лейтенанта продуктовые карточки за бутылку шотландского виски (которую Джо приобрел по знакомству за три фунта стерлингов через одного из мальчишек-лифтеров в здании, где мы работали). Благодаря этому мы смогли договориться с содержателями Локсли-Мэншн, чтобы нам подавали завтрак, обед и ужин. Итак, мы вполне устроились, и у нас была уйма времени, чтобы поразмыслить о вторжении. Мы воображали, что оно начнется этак недели через две, в середине марта, но, конечно, этого не случилось.
Вторжение целиком занимало умы всех людей в Лондоне, в Англии да и в Америке, вероятно, тоже. Им пестрели все газеты. Каждый по мере сил пытался угадать, когда оно начнется, и вскоре прошел слух, что никакого специального вторжения не будет: дескать, вторжение идет все время и так - с востока на русском фронте и с воздуха. Мы держим немцев в смятении и беспокойстве - вот это и есть вторжение.