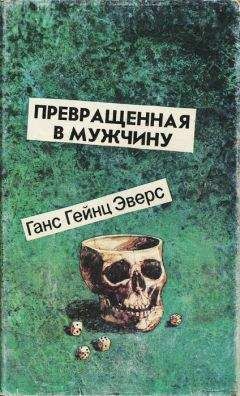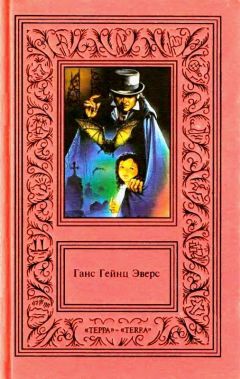Прекраснейшая дьяволица,
Красавица Лилит
Ударила змею,
Ударила Лилит змею-царицу
Унизанным перстнями пальцем,
Чтобы она вкруг пальца обвилась
И обвивалась и шипела.
Шипела, шипела
И ядом брызнула своим.
И капли яда собрала Лилит
И сохранила в медной тяжкой вазе.
Сырой земли
Черной, мягкой, тучной,
Бросила она туда.
Своими белыми руками
Она коснулась тихо
Тяжелой медной вазы.
Чуть слышно пели бледные уста
Старинное проклятье.
Как песня детская оно звучало
Так тихо, томно, мягко,
Так томно, словно поцелуи,
Которые пила земля сырая
Из уст ее...
И жизнь затеплилась в тяжелой вазе:
Разбужены лобзаньем томным,
Разбужены волшебным пеньем,
Восстали к свету в темной, тяжкой вазе
Орхидеи.......................
Та, которую люблю я,
Обрамляет бледное лицо
Перед зеркалом кудрей волнами.
Рядом с ней из тяжкой медной вазы
Выползают, словно змеи,
Орхидеи.
Орхидеи - адские цветы.
Старая земля
Родила их, сочетавшись браком
С ядом змей. Лилит проклятье
Дало им источник жизни,
Родила земля сырая
Орхидеи - адские цветы.
- Прекрасно! - сказала Альцина.
Да, уважаемый доктор, такова была наша жизнь: сказка, сотканная из лучей солнца. Мы вдыхали утраченное прошлое, из наших поцелуев вырастало неведомое, неподозреваемое будущее.
И все чище - чистая, как кристалл - звучала гармония наших мечтаний. Однажды она прервала меня в середине стихотворения.
Она сказала:
- Молчи! - и крепко прижала лицо к моей груди.
Я чувствовал, как ее тонкие ноздри трепетали на моем теле. Прошла минута.
Она подняла голову и сказала:
- Тебе нет надобности говорить. Твои мысли благоухают.
Она закрыла глаза - и медленно договорила мои стихи до конца...
...Или же она брала мою голову в руки и ласкала тонкими пальцами мои виски.
Тогда я чувствовал, как ее желания проскальзывают в меня и вступают в ласкающее обладание моей душой.
Как будто сладкая музыка звучала в моих висках, как будто пение танцующих солнечных лучей.
Там, где раскинулись зеленые лужайки, где по мраморным ступеням катятся холодные струи горного потока, где покачиваются среди цветов магнолии яркие фазаны, и грезят в своем уединении белые павлины, - там стоит дерево.
Далеко кругом себя раскинуло оно свои ветки; благоуханием весны и любви напоен кругом него воздух. Белые цветы поднимаются из листьев, и между них сверкают золотые плоды.
Прекрасная фея покоится в прохладной тени. Она рассказывает дереву сказки, и дерево это - ее возлюбленный.
Она говорит, а он шелестит листьями и посылает ей с ветром свой аромат.
Так беседуют они оба.
Так росло во мне познание - медленно, постепенно, как всякое откровение. Так гармонично, что я не мог бы указать ни одной пограничной черты. Те отдельные подробности, которые я только что вам привел, уважаемый доктор, я выбрал из тысячи им подобных. Чудо началось, когда я в первый раз увидел эту женщину... А может быть, оно началось и гораздо ранее. Не должен ли я считать первым легким началом, например, хотя бы те мои мысли, которые я выразил в своих стихотворениях?
Закончится же чудо тогда, когда я буду стоять под открытым небом, в лучах солнца, и буду носить белые цветы и золотые плоды.
А пока - последовательное развитие, шествующее вперед спокойно, сильно, уверенно, не зная никакого сопротивления.
И не только духом, но и телом. Разве я не говорил вам, что все мое тело напоено сладким ароматом? Убедитесь же в этом, уважаемый доктор.
Наступили последние ночи. Однажды она сказала мне:
- Я должна вскоре покинуть тебя.
Я не испугался. Каждая секунда, проведенная с нею, была для меня вечностью, и еще должны беспредельную вечность мои счастливые руки обнимать ее.
Я склонился к ней, и она продолжала:
- Ты знаешь, что случится тогда, Астольф?
Я утвердительно кивнул и спросил:
- Куда ты уедешь?
Две слезы упали на ее щеки. Она выпрямилась, и ее глаза засветились, как созвездия ночи над пустынной степью.
- За море, - сказала она, - туда, откуда я пришла. Но я буду тебе писать. А потом, позднее, когда ты расцветешь, когда легкий ветер будет играть твоими ветками, - тогда я снова приду к тебе. Приду к тебе, возлюбленный, и буду покоиться в твоей тени. Буду отдыхать у тебя, мой возлюбленный, и грезить вместе с тобой нашими сладчайшими грезами...
- Возлюбленный! - сказала она. - Возлюбленный!..
И как зеленые путы плюща обвивают ствол и ветки, так обняла меня она... Вот так...
Вы знаете, доктор, что произошло потом. Придя однажды вечером в виллу, я не мог дозвониться. Она уехала. Ее вилла опустела. Я поставил на ноги всю полицию и сыщиков, бегал все дни, как сумасшедший. Я делал тысячу глупостей, но уверяю вас, доктор, что все это следует отнести просто лишь на счет влюбленного, у которого исчезла, словно по волшебству, его возлюбленная.
Мои товарищи по корпорации очень печалились и заботились обо мне - даже более, чем это было мне приятно. Это они телеграфировали моим родителям. Затем наступил тот припадок бешенства, который вы назвали "катастрофой" и который, в сущности, был совершенно естественным событием. Мои друзья, следившие после моих вышеупомянутых глупостей за каждым моим шагом, заметили, что я постоянно подкарауливаю почтальона. И когда приходило письмо - ее письмо, - они отбирали его у письмоносца на улице. Теперь я прекрасно знаю, что они делали это с добрым намерением, желая удалить от меня всякий повод к новому возбуждению. Но в то мгновение, когда я увидел из окна, как они отбирают письмо, мои глаза застлало красным светом. Мне показалось осквернением моей святыни, что они прикасаются своими руками к бумаге и что их глаза читают слова, которые она написала. Я схватил со стены остро отточенную рапиру и побежал по улице. Я кричал им, чтобы они отдали мне письмо. Они отказались, и тогда я ударил того, который держал письмо, рапирой прямо в лицо. Брызнула кровь и оросила письмо, которое я вырвал у него. Я побежал в свою комнату, заперся и стал читать.
Она писала:
"Если ты меня любишь, то доведешь это до конца. О, я приду, я приду к тебе, возлюбленный. Я буду покоиться в твоей прохладной тени и рассказывать тебе дивные сказки.
Альцина".
Я кончил, уважаемый доктор. Меня доставили сюда хитростью, но теперь я благодарен судьбе, которая привела меня сюда. Все волнения прошли, и я снова нашел в этой удивительной тишине прежний покой. Я пребываю в сладком аромате, который исходит из моего тела, и чувствую и знаю, что я дождусь завершения. Уже мне становится тяжело писать, уважаемый доктор, мои пальцы не хотят сжиматься, они раздвигаются, растопыриваются, как ветви.
Ваше заведение лежит в великолепном обширном парке. Я сегодня утром странствовал по нему. Он так велик, так прекрасен. Я знаю, доктор, что мои слова убедили вас. О, мне удалось, без сомнения, убедить вас... Итак, когда наступит час, который уже так близко, то не пытайтесь помешать тому, что должно исполниться. Там, на большом лугу, где шумят каскады, - там буду я стоять. Я надеюсь, что вы, доктор, распорядитесь, чтобы за мной был хороший уход. Боннский садовник знает, как обращаться с померанцевыми деревьями, он даст вам указания. Я отнюдь не желаю захиреть... Я хочу расти и цвести, чтобы она радовалась и восхищалась моей красотою.
Она будет писать, доктор. Вы узнаете ее адрес.
Еще одно: каждым летом, когда моя верхушка будет сверкать тысячью золотых плодов, будьте добры, доктор, срывайте самые прекрасные из них и кладите в корзиночку. И посылайте ей.
И пусть будет вложена туда записочка с милыми словами, которые я однажды слышал на улице Гренады:
Я сорвал в моем саду
Померанцев спелых, ярких,
Сок их алый - кровь моя.
И тебе, моя голубка,
Померанцев я принес.
Так возьми же их, голубка,
Только их ножом не режь:
Ты мое разрежешь сердце
В середине померанца.
О. Поркеролль. Июнь 1905