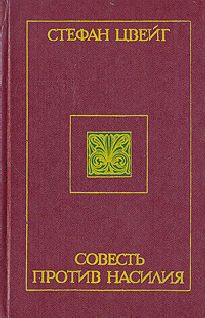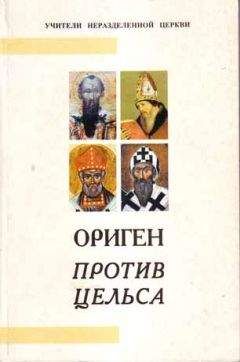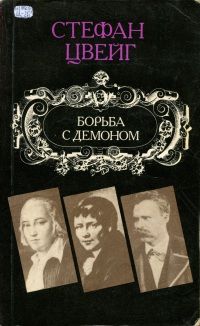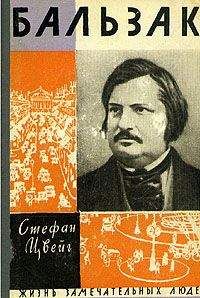Несомненно, что слова Кальвина - "проповедники имеют право приказывать всем от мала до велика" - господа советники упустили из виду, иначе они никогда не отдались бы столь опрометчиво в руки этого деспота. Не имея представления о том, что французский эмигрант, которого они призвали в свою церковь, с самого начала решил стать властителем города и государства, они предоставили ему должность и положение. Но с этого дня их собственной власти пришел конец, поскольку в силу своей неукротимой энергии Кальвин будет захватывать все, будет настойчиво претворять в жизнь свое всеобщее требование и тем самым превращать демократическую республику в теократическую диктатуру.
Уже первые мероприятия обнаруживают дальновидную логику и целеустремленную решимость Кальвина. "Когда я впервые пришел в эту церковь, - писал он позднее об этом времени в Женеве, - там почти ничего не было. Велись проповеди, и только. Разыскивали иконы и сжигали их. Но Реформации не существовало, все находилось в беспорядке". А Кальвин - прирожденный гений порядка: все беспорядочное и бессистемное противоречит его математически точной натуре. Если хочешь воспитать в людях новую веру, то сначала следует дать им возможность узнать, во что они должны верить и что признавать. Они должны четко различать, что можно и чего нельзя; всякому царству духа, как и любому земному, нужны свои конкретные границы и свои законы. Поэтому уже через три месяца Кальвин представляет Совету готовый катехизис, в 21 статье которого с доступной краткостью формулирует основные положения нового евангелического учения, и совет, принципиально одобрив, принимает этот катехизис в качестве десяти заповедей новой церкви.
Но такой человек, как Кальвин, не позволяет себе удовлетвориться простым одобрением, он требует полного послушания, до последней мелочи. Ему совершенно недостаточно, что учение сформулировано, ибо вместе с тем все же для каждого отдельного человека как бы сохраняется некоторая свобода выбора: подчиниться ли учению и если да, то в какой степени. А Кальвин никогда и ни в коей мере не терпит свободы в делах веры и жизни. Он не соглашается отдать внутреннему убеждению отдельного человека ни пяди свободного пространства в религиозных и духовных делах; по его представлению, церковь не только имеет право, но и должна силой навязывать всем людям авторитарное повиновение и неумолимо наказывать даже элементарное равнодушие. "Пусть другие думают иначе, но я не считаю, что у нашей должности такие узкие рамки, будто после прочитанной проповеди мы можем спокойно сложить руки на коленях, словно уже выполнили тем самым свой долг". Его катехизис представляет собой не просто наставление в вере, но государственный закон; поэтому он требует от совета, чтобы граждане города Женевы, каждый в отдельности, один за другим, принуждались бы официально признавать этот катехизис и присягать ему. Как школьники, группами по десять человек со старшими во главе, граждане должны направляться в собор и там, подняв правую руку, давать клятву, текст которой зачитывал вслух государственный секретарь. А тех, кто отказывался дать ее, следовало немедленно заставить покинуть город. Ясно раз и навсегда: отныне в стенах Женевы не может жить ни один гражданин, который в религиозных делах хоть на волосок отклоняется от требований и взглядов Жана Кальвина. В Женеве покончено со "свободой христианина", которой требовал Лютер, с пониманием религии как дела индивидуальной совести. Закон победил мораль, а буква Реформации - ее дух. С тех пор как Кальвин вступил в город, в Женеве покончено со всякой свободой, единая воля господствует теперь надо всеми.
Любая диктатура немыслима и невозможна без насилия. Кто хочет сохранить власть, должен иметь средства принуждения, кто хочет повелевать, должен в то же время обладать и правом карать. А у Кальвина, согласно указу о его должности, не было ни малейшего права давать распоряжения о высылке за религиозные проступки. Советники призвали "lecteur de la Sainte Escripture" - излагать писание верующим, проповедника - проповедовать и наставлять общины в истинной вере в бога. Но право наказывать юридические и нравственные проступки граждан они, вполне естественно, полагали сохранить за собой. Ни Лютер, ни Цвингли, никакой другой реформатор не попытались до сих пор оспорить у гражданских властей это право и самую власть; но Кальвин, как авторитарная натура, сразу же применяет свою огромную волю, чтобы низвести роль магистрата до простого исполнителя его приказов и распоряжений. А так как Кальвин не обладает для этого законными средствами, он создает их по собственному праву, вводя отлучение от церкви: с гениальной изворотливостью превращает он религиозное таинство причащения в личное средство власти и принуждения. Ибо кальвинистский проповедник допустит к "пище господней" исключительно того, чье нравственное поведение покажется ему лично не вызывающим сомнений. А с тем, кому проповедник откажет в причащении - и здесь проявляется вся мощь этого оружия, - с тем покончено и в гражданском смысле. Никто не смеет больше разговаривать с ним, что-нибудь продавать ему или покупать у него; тем самым предписанная религиозной властью и якобы только церковная мера тотчас оборачивается бойкотом в общественной и деловой жизни; если затем отлученный все еще не капитулирует, а отказывается совершить предписанное священником публичное покаяние, то Кальвин распоряжается выслать его. Противник Кальвина, будь он даже самым уважаемым гражданином, не сможет после этого долго жить в Женеве, отныне гражданское существование того, кто навлек на себя ненависть духовенства, находится под угрозой.
С этой молнией в руках Кальвин может поразить всякого, кто оказывает ему сопротивление, одним-единственным смелым приемом он зажал в кулаке огненные и громовые стрелы, которые прежде не сумел метнуть ни разу епископ города. Ибо в католицизме надо было все-таки пройти бесконечный путь по инстанциям, от высоких к самым высоким, прежде чем церковь решалась открыто изгнать одного из своих членов. Отлучение не зависело от отдельного человека и было полностью свободно от его произвола. Кальвин же, целеустремленный и неумолимый в своей жажде власти, изо дня в день легко передавал это право отлучения от церкви в руки проповедников и консистории, он превратил эту ужасную угрозу в почти регулярное наказание и как психолог, точно определивший результат воздействия террора, неизмеримо увеличил свою личную власть с помощью страха перед этим наказанием. Правда, магистрату еще удается с трудом постановить, что причащение должно совершаться только раз в три месяца, а не ежемесячно, как этого требовал Кальвин. Но уже никогда больше Кальвин не позволит вырвать у него самое сильное оружие, поскольку лишь благодаря ему может он начать свое кровное дело: борьбу за полноту власти.
Чаще всего требуется некоторый срок, пока народ начнет замечать, что за временные преимущества диктатуры, ее более строгую дисциплину и повышенную действенность коллективной мощи всегда бывает заплачено ценой личных прав людей и что каждый новый закон неизбежно принимается в обмен на старую свободу. Так и в Женеве лишь постепенно пробуждается это сознание. С открытым сердцем горожане согласились провести Реформацию, добровольно собрались они на рыночной площади, чтобы как свободные люди, поднятием рук, объявить себя сторонниками новой веры. Но все-таки их республиканская гордость возмущается против того, чтобы их группами по десять человек гнали по городу, как сосланных на галеры, под стражей в церковь для принесения торжественной присяги каждому параграфу господина Кальвина. Не для того они одобрили строгую реформу нравов, чтобы теперь этот новый проповедник ежедневно мог грозить им изгнанием и отлучением только за то, что однажды они весело пели за стаканом вина или носили одежду, которая показалась господам Кальвину или Фарелю слишком пестрой или чересчур пышной. И кто же они, наконец, эти люди, которые так властно ведут себя - начинает вопрошать народ. Это граждане Женевы? Это старейшие коренные жители, которые заботились о величии и богатстве города, испытанные патриоты, столетиями связанные родственными узами с лучшими семьями? Нет, это недавние беженцы, пришедшие из другой страны, из Франции. Их радушно приняли, обеспечили пропитанием и хорошо оплачиваемым местом, а теперь этот сын сборщика па-логов из соседней страны, который сразу же перетащил с собой на теплое местечко своего брата и зятя, осмеливается оскорблять их, делать выговор им, коренным гражданам! Он, эмигрант, ими же назначенный служащий, берет на себя смелость определять, кому позволено оставаться в Женеве, а кому нет.
Всякий раз в начале диктатуры, пока свободные души еще не порабощены, а независимые не изгнаны, сопротивление имеет определенную силу: настроенные по-республикански открыто заявляют в Женеве - они и не думали о том, чтобы позволить отчитывать себя, "будто они уличные разбойники". Все улицы, прежде всего Немецкая, отказываются дать требуемую клятву, они ропщут громко и возмущенно, что не будут присягать и не оставят свой родной город по приказу этих приблудных французских голодранцев. Все-таки Кальвину удается вынудить преданный ему "Малый совет", чтобы тот действительно покарал высылкой отказавшихся дать клятву, но непопулярную меру больше не отваживаются проводить в жизнь, а результат новых выборов ясно показывает, что большинство города начало противиться произволу Кальвина. Его ярые приверженцы теряют преимущество в новом Совете в 1538 году, демократия в Женеве сумела еще раз противопоставить свою волю авторитарным претензиям Кальвина.