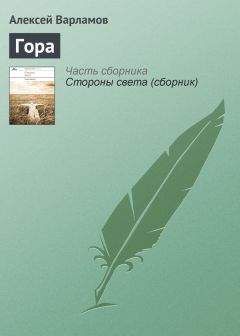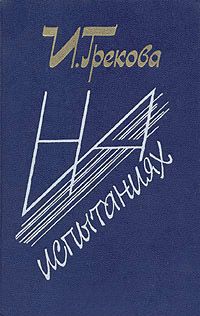Ознакомительная версия.
Верочкины школьные годы были бурные, двадцатые. Неслыханным половодьем разливалась новая жизнь, размывала устои. В воздухе носились слова: «Долой!» и «Даешь!» — оба на «д». Долой церковь, долой попов и монахов, долой мещанство, долой собственность! Даешь новое! «Долой» и «даешь» захлестывали, конечно, и школу. Возникали, шумели и отмирали новые методы обучения: комплексный, Дальтон-план, бригадно-лабораторный. Вводилось, ограничивалось и снова вводилось самоуправление. Выкидывались парты, черные доски. Во дворах горели костры из пособий. Классы становились лабораториями, учителя — консультантами. Ученикам раздавали книги, по одной на бригаду в пять-шесть человек, и велели работать самостоятельно, коллективно. А как работать — не объясняли, им и самим это было неясно. Новые методы изобретались где-то в столицах, а сюда приходили в виде невнятных, противоречащих друг другу инструкций.
Иные учителя, по-новому «шкрабы», вовсе сбивались с толку; захлестнутые волной перемен, они плыли по течению, робко недоумевая. Однако были среди них и сильные, одаренные, которые, невзирая на методический хаос, продолжали учить и чему-то выучивали. Вокруг таких учителей группировались самые способные, желающие учиться, и Верочка — среди них. У нее было счастливое свойство приспосабливаться ко всему новому, сливаться с обстоятельствами, плыть в них как рыба в воде и туда, куда нужно. Глядя, как она усердно и весело учится, можно было подумать, что есть здравое зерно и в Дальтон-плане, и в бригадно-лабораторном. Память у нее была отличная, она любила русский язык, литературу, обществоведение, питала здоровое отвращение к математике и ухитрилась выйти из школы с неплохим, в общем-то, образованием, хотя и дырявым. Дырки получались там, где в переходах от метода к методу что-нибудь просто забывали пройти. Так вышло у Верочки с запятыми. Она ставила их не по правилам, а по вдохновению и, на всякий случай, почаще, почти после каждого слова. Так и осталось у нее навсегда. Верочка всю жизнь любила и умела писать письма; эти веселые, милые письма казались от лишних запятых еще веселее, милее. Запятые были в них как множество ликующих подтверждений.
В общем, Верочка прошла благополучно все школьные бури, а вот Ужик не выдержал. Он запоем митинговал на собраниях, как тогда говорили, «бузотерствовал», свергал учителей, требовал смены заведующего, свистел на уроках и на конференциях, когда ими заменили уроки, а учиться у него времени не было. Прежний заведующий, хилый интеллигент, боялся Ужика и трусливо переводил его из класса в класс. Довел бы и до окончания школы, но Ужик, на свою голову, добился-таки его увольнения. Новый заведующий — мужик крепкий, соленый — быстро вывел Ужика на чистую воду, обнаружил, что тот не усвоил даже таблицы умножения, и с громом выгнал его из школы. Гордый Ужик (все-таки принц!) в другую школу поступать не стал, а пошел на завод. Там его быстро пообломали. Куражился он теперь только дома, над сестрами: он, мол, рабочий класс, а они — кисейные барышни. Ногти на смуглых руках у него обвелись черной, рабочей каймой, и ел он борщ за столом, как хозяин.
Мать Анна Савишна новую жизнь приняла с робкой готовностью. В прошлом у нее хорошего не было: труд да бедность, жалеть было не о чем. Она и за иконы-то не очень держалась, когда Верочка с Ужиком, комсомольцы, вынесли их за ворота и сожгли на костре. Сначала ее смущал пустой угол, где прежде висели иконы; чудился ей там покойный отец Савва с клюкой и проклятием, но ничего, обошлось, привыкла. Стала она посмелей, поразговорчивей, даже снимала платок с головы и, уронив его на плечи, приглаживала ладонью все еще густые, мало поседевшие волосы. Полюбила читать. В свободную минуту брала книжку и, зацепив ниткой за ухо старые очки в железной оправе, усердно водила глазами по строчкам. Жизнь еще была трудна, но становилась легче. Дочери, как барышни, учились в гимназии (по-нынешнему — в единой трудовой), старшая — хорошо, младшая — хуже, но все же обе получат образование, на ноги станут, не век же им, как матери, в земле копаться. Ужик недоучился, но и он был на твердом пути, как-никак зарабатывал и всю получку отдавал матери.
Был в ее жизни смешной случай: взял да и посватался к ней бывший мельник, нынче уже не мельник, а завкооперативом. Заслал соседку: так, мол, и так, предлагает Иван Севастьянович руку и сердце. Мужик еще нестарый, вдовый, дети взрослые, дом — полная чаша. Анна Савишна и посмеялась, и поплакала, и отказала. Жила по-прежнему своей семьей, с двумя дочками и сыном Ужиком. Время-то идет — не успеешь оглянуться, дети большие. Вот уже и Верочка кончила школу. Поступит на службу — все-таки полегче будет...
Фигура человека на берегу приближалась, было уже отчетливо видно, что идет он сюда, не отсюда, что одет не в черное, как ей сперва показалось, а в военно-защитное. Человек в военной форме, но босой, шел по песку и нес в руках сапоги. Верочка опустила красный купальник, умерила шаг, поправила мокрые волосы. Человек приближался. Вот уже песок заскрипел совсем рядом. Среднего роста командир, в расстегнутой гимнастерке, с белыми босыми ногами (сапоги он держал за ушки и вольно их раскачивал), подошел и прямо взглянул на нее. Они были одного роста, и на одном уровне с ее лицом было его лицо — удлиненное, красивое, с дугообразными соболиными бровями. И на одном уровне с ее глазами — вглядчивые, жестокие, горчичного цвета глаза. «Добрый день», — сказал командир. Верочка, не смутившись, ответила: «Добрый день». Она не была робка.
— Вы ли это здесь пели?
— Я. А что, вам понравилось?
— Очень. Но вы перестали петь, и жаль, что перестали. Мне хотелось бы знать, что там такое случилось с чайкой?
— Она, трепеща, умерла в камышах, — краснея плечами и грудью, ответила Верочка.
Нет, она не была робка, а краснела оттого, что кровь гуляла в ней волнами. У нее было премилое воркующее «р» с маленьким как бы хвостиком, легким оттенком «л» на конце. Стояла она на песке прямо и статно, в розовом ситцевом платье с рукавами-фонариками, и кровь медленно покидала ее плечи, шею и грудь.
— Как вы сказали? Я не расслышал.
— Она, трепеща, умерла в камышах, — чуть смутившись, повторила Верочка и опять залилась краской.
— Прекрасно. «Трлепеща». Обычная судьба каждой чайки.
— Но не каждой девушки.
Высокая, крепкая, сильная, с мягко покатыми плечами, из которых белым стволом гордо прямится длинная шея. Широкие бедра, плоский живот. Толстоватые, но стройные ноги. Он окинул ее взглядом знатока и остался доволен. Да, такая, пожалуй, не умрет трепеща. Ее раскиданные по плечам волосы еще не просохли; он подошел ближе и поднял двумя пальцами с ее плеча пестро-белокурую прядь.
— Купались?
— Да. А что?
— Жаль, меня не было при этом. Я увидел бы, как Афродита выходит из морской пены.
Афродита... Никто еще так с Верочкой не говорил. Товарищи-комсомольцы говорили: «Дай пять», «На большой палец с присыпкой»... Верочке про Афродиту понравилось. Она усмехнулась и ответила чуть-чуть вызывающе:
— Да, вам не повезло.
— Может быть, еще повезет?
— Может быть.
— В котором часу вы купаетесь?
— В семь утра.
— Отлично. Завтра, ровно в семь, здесь, на пляже. Я вас приветствую.
Он поднял с песка сапоги, сделал одним из них какой-то неуловимо-победный жест (приветствовал сапогом?), повернулся и пошел, утопая в песке чуть искривленными, уверенными ногами.
Верочка глядела ему вслед со сложным чувством полувражды, полуподчиненности. Смущало ее и то, что, как ни толкуй, она все же назначила наутро свидание этому незнакомому человеку. Попробовала опять затянуть про чайку, но песня не сладилась. Настоящие чайки, носясь над морем, орали фальшивыми голосами, как будто дразня ее: «Ну, что, взяла?»...
Эту ночь Верочка спала плохо. Тикали ходики, цыкал сверчок, повторяя и повторяя свой скрипящий маленький звук. Мать, как всегда неслышно, спала рядом. Верочку гнели мысли, что все спят, и он, сегодняшний незнакомец, тоже спит где-то в пределах города — спит и про нее не думает, а она... Несмотря на распахнутые окна, в хате было душно. Бродил вдалеке гром, мигали зарницы. Внутренним зрением изнутри закрытых век она снова видела горчичные глаза, соболиные брови, сапоги, ухарски взятые за ушки, удаляющуюся по песку уверенную походку (и не обернулся...). Она вздыхала, переворачивала подушку, ища прохлады. Плечи ее были прохладны, шелковисты — она поцеловала себя в плечо и рассмеялась тихонько. Словом, Верочка была влюблена. Наутро, ровно в семь часов, она стояла на пляже в том самом месте, где вчера рассталась с военным. Его не было.
— Ну и что ж, ну и что ж, — сказала она себе, силясь не огорчаться. — Плакать не будем, проживем и так.
Быстро разделась (ветер свежий, утренний), натянула красный купальник, который предательски треснул под мышкой, и пошла к воде. Крупный песок, как живой, шевелился меж пальцами ног. Она раскинула руки, как бы обнимая море, и кинулась грудью вниз в голубую воду, видя ее голубой, хотя у берега она была буро-зеленой. Поплыла вперед, широко, мужскими саженками выкидывая руки. При каждом броске тело, как бы следуя за руками, полувыныривало из воды, шло в общем косо, как косо идет приподнятая скоростью моторная шлюпка. Удивительная вещь вода. В воде ей как-то удалось забыть и вчерашнюю встречу, и ночь, и назначенное свидание. Выходя, она спустила с плеч купальник и оглядела дыру под мышкой. Так и есть — не по шву, а по живому месту. В это время из-за камня появился вчерашний военный:
Ознакомительная версия.