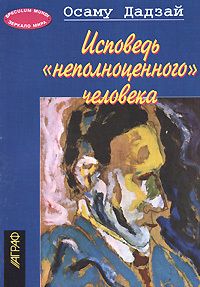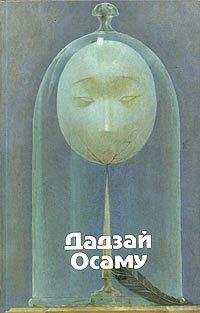Спасибо. - Конфузливо улыбаясь, Анесса взяла книгу и вышла из комнаты.
Вот тебе и Анесса... Понять как и чем живет женщина казалось мне мудреней, чем разобраться в мыслях дождевых червей; впрочем, само это занятие отнюдь не из самых приятных. Но единственное я усвоил с детства: если женщина внезапно расплачется - нужно дать ей поесть чего-нибудь сладкого, и тогда ее настроение моментально улучшится.
Сэцуко, например. Приводит ко мне в комнату свою подругу. Ясное дело, я смешу их, потом подруга уходит, и Сэцуко обязательно говорит о ней гадости: паршивая девица, держись подальше от нее, и тому подобное. Уж лучше бы вообще не приводила ее, и так у меня в гостях бывают одни только бабы.
И все же пророчество Такэичи тогда еще в полной мере не сбылось. Собственно, чем я был в то время? - Всего лишь местный Гарольд Ллойд. Только по прошествии нескольких лет глупый комплимент Такэичи обернулся зловещей явью, расцвел пышным цветом и дал горькие плоды.
В свое время Такэчи сделал мне еще один "подарок".
Однажды он появился у меня с какой-то книгой в руках, раскрыл ее и с победным видом показал цветной фронтиспис.
- Привидение, - пояснил он.
Что-то во мне оборвалось в этот миг. Уже потом, гораздо позднее я понял, что именно тогда передо мной разверзлась пропасть, в которую я до сих пор продолжаю лететь. Картину я узнал - это был знаменитый автопортрет Ван Гога. Во времена моего отрочества в Японии начался бум вокруг французских импрессионистов, собственно, с них пошло увлечение европейским искусством. В любой деревне школьники по репродукциям знали Ван Гога, Гогена, Сезанна, Ренуара. Меня особенно интересовал Ван Гог, я видел много цветных репродукций его работ, уже тогда восхищался кистью художника, свежестью палитры, но, признаться, его картины никогда не ассоциировались у меня с чертями, привидениями.
Ну, а это тоже привидение? - Я снял с полки альбом Модильяни и показал Такэичи картину, на которой была изображена бронзово-загорелая женщина.
- Вот это да! - воскликнул потрясенный Такэичи.
- Напоминает лошадь из преисподней.
- Нет, все-таки привидение.
- И мне хотелось бы писать такие привидения... - вырвалось у меня.
Люди, чувствующие страх перед себе подобными, как ни странно, испытывают потребность воочию видеть чудища, этого требует их психология, нервная организация; чем более человек подвержен страху, тем сильнее он желает неукротимых страстей. Эта кучка художников немало настрадалась от людей. Загнанные ими, художники уверовали в фантасмагории, причем настолько, что чудища виделись им средь бела дня, и они безо всякого лукавства стремились изобразить эти видения как можно явственнее и совершеннее. Так что Такэичи, заявивший, что они пишут привидения, был прав. И мне судьбой предначертано стать их сподвижником... Сильное волнение охватило меня, я чуть не прослезился.
- В моих картинах тоже будут химеры, привидения, кони из преисподней. сказал я почему-то очень тихо.
Еще в начальной школе я увлекался рисованием, любил рассматривать картинки, но считалось, что рисунки мне удаются хуже, чем сочинения. Впрочем, к суждениям людей я никогда не питал доверия; что же касается моих сочинительских опытов, то я слишком хорошо знал: они мне нужны единственно для того, чтоб доставить удовольствие учителям - сначала в начальной школе, потом в средней; сам же относился к ним, как к чему-то вроде клоунады, считая их совершенно неинтересными. И лишь когда я рисовал (не шаржи, конечно), я работал вдохновенно, испытывал сладкое мучение, стремясь выразительнее передать свои ощущения. Причем с самого начала я шел собственным путем. Школьные учебники по рисованию были скучны, работы учителей казались мне мазней, приходилось напрягаться в поисках собственных средств выражения. Еще в средней школе у меня было все необходимое для работы маслом, но картины обычно получались какие-то плоские, как детская аппликация из цветной бумаги - вероятно оттого, что я руководствовался школьными пособиями, а подражание, даже если бы эти пособия были составлены под влиянием импрессионистов, не могло дать хороших плодов. И именно Такэичи помог мне разглядеть, где в своих художнических принципах я был неправ. Глупо стараться так же красиво воспроизвести то, что воспринимаешь как красивое; большие художники из ничего, своею волею творят прекрасное. Испытывая тошноту при виде безобразной натуры, они не скрывают, тем не менее, интереса к ней, работают с огромным наслаждением. Иначе говоря, секрет - ключ к нему дал мне Такэичи - состоял в примитивизме. И вот, тщательно скрывая от частых посетительниц моей каморки, я приступил к работе над автопортретом. Получилась вещь трагическая, от портрета мне самому становилось не по себе. То был я - тот я, которого сам же старался поглубже упрятать, тот я, на губах которого всегда скользила ухмылка, я, веселящий всех вокруг, но с душой, которую гложет вечная тоска. "Неплохо", - одобрил я свою работу, но не мог показать ее никому, кроме Такэичи: опасался, что люди смогут выведать мое самое сокровенное, не хотел, чтобы меня от чего-нибудь предостерегали, боялся также и того, что в портрете не увидят меня и сочтут его очередной блажью шута, страшился, что он вызовет только хохот, а это было бы горше всего... В общем, я упрятал автопортрет как можно глубже в стенной шкаф.
Свой химерический стиль я скрывал, на школьных занятиях старался красиво изображать красивое и не переходить границ посредственности.
Доверился только Такэичи, перед которым давно уже раскрыл свою израненную душу. Я спокойно показал ему автопортрет. Он похвалил эту мою первую работу, а потом, после второй или третьей "химерической" картины еще раз предрек:
- Из тебя получится большой художник.
И вот, окрыленный двумя пророчествами дурака Такэичи, я вскоре отправился в Токио.
Хотел поступать в художественное училище, но отец, намереваясь сделать из меня чиновника, велел учиться в старших классах столичной гимназии. Перечить отцу я не мог, подчинился его воле еще и потому, что самому опостылели дом и сакура на берегу моря. Успешно сдал экзамены в Токийскую гимназию и началась общежитская жизнь, грязи и грубости которой я не выдержал. Уйдя из общежития (не только из моральных соображений, но и потому еще, что врачи поставили диагноз: инфильтрат в легких), я поселился на отцовской даче в районе Уэно-Сакураги. Вообще приспособиться к жизни в коллективе мне никогда не удавалось, а тогда меня бросало в холод от таких изречений, как "юношеский пыл", "достоинство молодого человека" и прочее, мне претил этот дух учащейся молодежи. И в классах, и в комнатах общежития в самом воздухе витала какая-то извращенная похотливость. Меня не спасало даже близкое к совершенству паясничанье. За исключением одной-двух недель, когда отец приезжал на свои сессии, на этой даче практически никого не было, и в довольно просторном доме я жил втроем со стариком-сторожем и его женой. Иногда я пропускал занятия, но слоняться по Токио не было желания (так никогда, наверное, и не увижу ни храма Мэйдзи-дзингу, ни памятника Кусуноги Масасигэ[8], ни могил 47 воинов в храме Сэнгаку); обычно я читал или рисовал.
В те дни, когда отец бывал в Токио, я сломя голову мчался в гимназию, а когда его не было - уходил в студию художника Синтаро Ясуда, работавшего в европейской манере (студия находилась в районе Хонке Сэндаки), и там по три, а то и по четыре часа занимался этюдами. Мне втемяшилось в голову, что, уйдя из общежития и появляясь на лекциях изредка, я оказался в особом положении вольнослушателя; все мне стало безразлично, посещать занятия становилось все тягостнее. Да и вообще, проучившись сначала в начальной школе, а затем в гимназии, я так и не проникся так называемым "школьным патриотизмом", не удосужился запомнить даже обязательные школьные гимны.
Вскоре один художник, посещавший студию Ясуды, научил меня пить сакэ, курить, развлекаться с проститутками, закладывать вещи в ломбард и разглагольствовать о левых идеях. Странная мешанина, не правда ли? Но так было на самом деле.
Звали этого парня Macao Хорики, он родился в пригороде Токио, был старше меня на шесть лет, уже закончил частное училище изящных искусств. Своей мастерской не имел и ходил к нам в студию заниматься европейской живописью.
Как-то Хорики обратился ко мне:
- Не одолжишь пять йен?
Я опешил, потому что знал его только в лицо, ни словом не приходилось перекинуться. Но пять йен все же протянул.
- Порядок. Пошли выпьем, я угощаю. Пошли-пошли!
Я не стал отказываться. Хорики потащил меня в кафе недалеко от студии. Вот так и началась наша дружба.
- Я давно приметил тебя, обратил внимание на твою конфузливую улыбку, каковая является отличительной особенностью предстоящего человека искусства. Ну, за встречу!...Эй, Кину-сан, что, симпатичный малый? Только чур, не влюбляться! Как только этот тип появился у нас в студии, я из первых красавцев перешел во вторые.