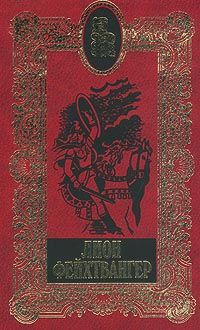Когда Оскар, усталый и счастливый, попрощался с последними гостями, в водах озера отражался новый день.
В Берлине Пауль Крамер уже не чувствовал себя в безопасности.
Гитлер еще много лет назад обещал, что как только он доберется до власти, то "покатятся головы". Теперь, после поджога рейхстага, ландскнехты Проэля, штурмовики, взялись выполнять это обещание. По настоянию нацистской партии на них была возложена полицейская служба в стране. Они врывались в дома, производили обыски, грабежи, аресты. Задержанных доставляли в казармы нацистов. Об их дальнейшей судьбе ходили ужасные слухи, иные из задержанных исчезали навсегда.
Среди арестованных и исчезнувших были и друзья Пауля. Сам он тоже навлек на себя гнев нацистов. Необходимо было немедленно убраться из квартиры и как можно скорее из Германии.
Он охотно бы остался и принял участие в борьбе против шайки разбойников, завладевшей государством. Но его политические единомышленники только смеялись, когда он об этом заговаривал. Они считали, что в своей области он сделал немало, но в той борьбе, которая теперь предстоит, будет лишь помехой. Эти рабочие, профсоюзные деятели, политические руководители тепло относились к нему, не выказывали ему того недоверия, которое питали к интеллигенции. Он и сам понял, что здесь ему больше делать нечего. Теперь здесь господствует неприкрытое насилие, против которого можно бороться пока только с необыкновенной изворотливостью, а эти качества отнюдь не являются его сильной стороной. Если он и сможет действовать, то лишь по ту сторону границы. Его друзья правы. Здесь его на каждом шагу подстерегает опасность - надо скрыться, и притом возможно быстрее.
"Прощай же, тихий дом", - напевал он про себя, запихивая кое-как в чемодан самые необходимые вещи. Сегодня он переночует у некоего Вилли на Гентинерштрассе, завтра у некоего Альберта на Гроссфранкфуртерштрассе. И того и другого он знает очень мало, но ему известно, что это надежные товарищи. А послезавтра, то есть не позже, чем через три дня, он окончательно исчезнет, как только ему удастся наскрести немного денег, ведь кое-что ему еще должны издательства и газеты.
Места, которые он покидает, не так уж хороши. Есть города покрасивее Берлина, а насчет бранденбургского ландшафта кто-то сказал, что это "подходящий фон для зла". Но он любит эту страну, любит этот некрасивый Берлин, сросся с этим ландшафтом и покидает город с болью. "Прощай же, тихий дом".
Свой темно-серый шерстяной костюм он надел на себя, чемодан уложил, теперь остается только надеть футляр на пишущую машинку. Но прежде надо еще написать письмо, последнее в этой комнате, в этой маленькой, обжитой, милой его сердцу комнатке на Нюрнбергерштрассе. Не может же он уехать из Германии, так и не повидавшись с Кэтэ. Вокруг совершаются страшные дела, положение улучшится не скоро, неизвестно, свидится ли он когда-нибудь со своими друзьями, да и вообще смешно: он сшил себе темно-серый шерстяной костюм, а Кэтэ его так и не увидит. И если даже он нарвется на унизительный отпор, он все же должен ей написать, должен попытаться еще раз встретиться с ней.
Он ни разу не видел сестры с тех пор, как она, рассердившись, уехала от него. Это было безумие, достойное сожаления. Он ничего о ней не знает, не знает даже, как она отнеслась к процессу, - решительно ничего. Но то, что не удалось сделать ему, вероятно, сделали за это время события. Они, надо думать, вышибли из нее дурь. Он видел снимки с отвратительного балагана, который построил себе мошенник Лаутензак. Кэтэ музыкальный человек, долго такой фальши она не сможет выдержать.
Пауль начал писать. Высказал все, что наболело. Облегчил душу. Не исправлял ошибок, не вычеркивал неудачных острот. Весело строчила машинка, аккомпанируя его непринужденной болтовне.
Получит ли она письмо вовремя? Получит ли она его вообще? Безусловно, получит. И, безусловно, придет. Его письмо - это уже начало их разговора.
Кэтэ смотрела на неровные строчки; машинка опять испортилась, и Пауль, конечно, не починил ее. В каждом слове она узнавала интонацию брата, его умную, смелую, решительную манеру. Когда она наталкивалась на одну из его неудачных острот, лицо ее выражало и боль и радость.
Не мешкая подошла она к телефону и набрала номер, указанный в письме. Услышала его голос. Глубокий, радостный испуг пронзил ее, а в его голосе прозвенела такая вспышка радости, что ей показалось непонятным, почему они не помирились гораздо раньше.
Он предложил ей встретиться и назвал маленький дорогой ресторан. "Пропадать, так с музыкой", - пояснил он и, уж конечно, не мог удержаться, чтобы не сообщить ей:
- Между прочим, я сшил себе новый костюм. Зеленый.
В ресторан они пришли почти одновременно. Разделись, выбрали столик, прочли меню, заказали ужин. Счастливыми глазами оглядывали друг друга. Пауль, как обычно, болтал обо всем на свете и, обсуждая с обер-кельнером меню, не спускал с Кэтэ прекрасных карих глаз. Не стесняясь посторонних, он положил руку ей на плечо.
- Какие же мы с тобой были дураки! - сказал он.
Здесь, в ресторане, они могли сообщить друг другу лишь немногое из того, что хотелось сказать, но интонация и голос многое выдавали. Пауль ел, как всегда, торопливо, небрежно, и даже, случалось, ронял на великолепный костюм кусочек рыбы. При этом болтал без умолку. Этот Кейт, в честь которого названа улица, где проживает Кэтэ, рассказывал Пауль, был интересной личностью, если только это тот самый Кейт, которого он имеет в виду; в Германии было несколько братьев Кейт, шотландцев, их призвал старый Фриц, по недоразумению столь обожаемый всеми. Этот злой старик, так называемый "Фридрих Великий", по сути дела, и является первопричиной всей теперешней злополучной заварухи, ведь он был первым нацистом, но надо сказать, что по сравнению с нынешними в нем было побольше перца. Затем Паулю захотелось узнать, понравился ли ей костюм, ведь он ради нее выбрал серую, а не зеленую шерсть, и заметила ли она, какая это прекрасная ткань, "материален.", как выразился портной Вайц, уверявший, что ей не будет сноса вплоть до тихой и, надо надеяться, не скорой кончины клиента.
Кэтэ радостно слушала его болтовню. Все эти мелочи не были для нее пустяками. Кэтэ любила брата, восхищалась им. Как он красив, строен высокий лоб, умное, страстное лицо, сияющие глаза. Что касается Кэтэ, она похудела, стала еще тоньше, чем прежде. Полушутя-полусерьезно он сказал ей, что она похожа на принцессу. Простой темно-коричневый костюм шел к ее темно-русым волосам, а лицо, которое менялось в зависимости от настроения, как ландшафт от погоды, сегодня благодаря радостному волнению встречи было светлее и оживленнее, чем обычно. Она была красива - и не только в глазах Пауля.
Все обращали на нее внимание. С особым интересом рассматривал ее какой-то молодой человек в нацистской форме; его лицо, еще совсем юное, было жестоким и порочным. Очевидно, Кэтэ показалась ему знакомой, он задумался, потом, как видно, вспомнил что-то и поклонился - вежливо, но с оттенком дерзкой фамильярности. Улыбнулся и Паулю - нагло, высокомерно, со злой, циничной любезностью. Может быть, он знал его лицо по газетам. Казалось, глядя на Пауля, он даже что-то припомнил, вынул книжечку и что-то отметил.
- Кто этот нахальный тип? - осведомился Пауль.
- Некто Цинздорф, - ответила Кэтэ.
Паулю эта фамилия была знакома, он сделал гримасу.
Кэтэ без перехода спросила, правильно ли она поняла намеки в письме и в разговоре по телефону, действительно ли он бросил квартиру на Нюрнбергерштрассе и предполагает надолго уехать? Пауль усмехнулся.
- Да и нет, - ответил он. - Не я отказался от Нюрнбергерштрассе, Берлин отказался от меня. Берлин меня выплюнул. Да, Кэтэ, твой брат покидает столицу. Он отправляется путешествовать. Куда глаза глядят. На неизвестный срок.
Кэтэ побледнела.
- В самом деле? Тебе действительно необходимо уехать? - спросила она, взглянув на него с изумлением.
- Я с удовольствием рассказал бы тебе об этом подробнее, - ответил он по-мальчишески сердито. - Но где? Нельзя ли у тебя? Здесь, в ресторане, очень уютно, однако это вряд ли подходящее место для такого разговора.
Они поехали к ней. В ее маленькой квартирке, среди простой, знакомой ему мебели, гордо красовался великолепный рояль. Пауль невольно помрачнел, почувствовал, что к атмосфере, окружающей Кэтэ, примешивается "аура" его врага Лаутензака.
Он сел и начал свое повествование. Старался говорить сухо, буднично, посасывая свою трубку, но вдруг сорвался, рассказал о многочисленных арестах, об исчезновении многих и многих, о том, что законность уничтожена, право попрано.
Кэтэ слушала молча, взволнованная. Все это ей было неизвестно. Немногие в Германии знали тогда о таких событиях, хотя они подчас происходили тут же, рядом, в соседней квартире. Только пострадавшие знали о них, только противники нацистов, а миллионы немцев ничего не подозревали и не хотели верить, когда им говорили об этом.