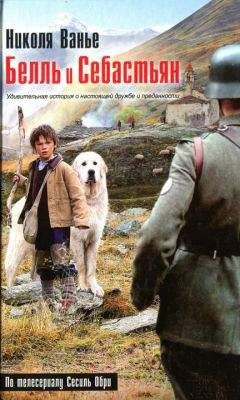Быстро закрашиваю левую половину обложки чёрной тушью, оставляя кружочек в углу белым. Оставляю белым и пространство (полукруг) правой половины. Всё! Готово. И я абсолютно уверена, что это – обложка моих «Лунных цирков». Единственно возможная. Без вариантов. Это они и есть – арена и луна – два дымных круга… А если меня спросят: где тут луна, а где арена? Что означает маленький кружочек, а что – большой полукруг? Я скажу: а это – как посмотреть… Здесь нет однозначности. Каждый видит, как видит. Каждый понимает, как хочет. Или как может. Обложка, если хотите, философская! Здесь возможны трактовки и толкования… Как пишут на некоторых объявлениях: торг уместен. Так я могла бы написать на своей обложке: толкования уместны. Но я не стала это писать. А написала лишь своё имя и название книги.
…С утра пораньше привезла свою выстраданную картинку художественному редактору издательства и, едва шевеля непослушным языком после бессонной ночи, сказала: «Вот обложка к моей книге».
Он взглянул на неё и радостно воскликнул:
– Отлично! А кто вам её сделал так быстро?
– Я сама.
– Так вы… поэт, который рисует? Или – художник, который пишет стихи?
Такого высокого одобрения я даже не ожидала.
И он тут же, при мне, подписал мою обложку в печать.
Вот так и получилось, что моя первая книга совершенно неожиданно вышла с моей обложкой. Мне ещё и гонорар за неё заплатили.
А ведь я была уверена в своей полной неспособности к рисованию!
Стрессовая ситуация высвободила дремавшие где-то в глубине способности…
* * *
…А потом, через много лет, когда представилась возможность самим издавать свои книги, я опять взялась за бумагу и карандаш…С тех пор так и рисую обложки к своим книгам. И мне это очень нравится!
* * *
Ездила к Каптеревым. Показала эскиз своей обложки. Хотя меня всё время жутко скребёт на сердце, что моя книга опережает книгу Людмилы Фёдоровны. Это НЕСПРАВЕДЛИВО! Так не должно было быть!! Из-за этого я даже не испытываю радости от того, что выход «Лунных цирков» неумолимо близится.
Как бы мне хотелось поменять наши книги местами! Но – увы – это не в моих силах. А то, что в моих силах, я делаю. После моего редзаключения рукопись рассмотрена редсоветом и поставлена в план редподготовки. Эти этапы не перепрыгнешь. Но теперь уже дело пойдёт скорее… Надеюсь! Молю Бога об этом.
И всё же не показать им обложку я не могла. Валерий одобрил, Мама Кошка восхитилась.
– Талантливый человек талантлив во всём! – сказала она.
– Идём, покажу тебе новую картину! – сказал Валерий. – А потом будем пить чай.
Мы пошли в его комнату.
На мольберте стояла ещё свежая работа, остро пахнущая невысохшей краской. Белые фиалки… на тёмно-синем фоне весеннего космоса…
– Это ты мне их в прошлый раз подарила, помнишь?
– Помню!
– Ты когда вошла с ними, я сразу понял, что буду их писать! А когда над твоим портретом уже начнём работать?
– Вот бабушка скоро приедет, смогу надолго оставлять Антошу…
– Ну, ты думаешь, что Люсина книга выйдет?
– Валерий Всеволодович, я вам обещаю: книга Людмилы Фёдоровны обязательно выйдет!
* * *
Пришли с Антошей с прогулки. В дверной ручке – записка. Разворачиваю её… и мир меркнет… мир рушится…
Записка от Светланы Завадовской. Две строчки, которые повергают меня в пучину ужаса и горя: «Вчера утром умер Валерий Вс. Каптерев. Отпевание завтра в 12 часов…»
Ноги не держат меня, я оседаю, опускаюсь на корточки, привалившись спиной к стене, и сижу так, не в силах шевельнуться, не в силах сказать ни слова… Антоша теребит меня:
– Ты чего сидишь тут, мамася? Пойдём, пойдём домой…
Я плакала так громко, что из соседней двери выглянула соседка. Та самая, к которой я уже много лет хожу по вечерам звонить.
– Маша, что случилось?!
Я протянула ей записку.
– Горе-то какое… – запричитала она.
– Позвонить можно, Зоя Куприяновна?
– Звони, звони, конечно!
Позвонила сначала маме:
– Мама, можешь прийти и остаться на ночь с Антошей? Валерий Всеволодович умер… завтра похороны… я еду к Людмиле Фёдоровне…
* * *
Никогда не забыть ту ночь, когда я опять спала на его диванчике – в ночь перед отпеванием… А он был в церкви…
Мы долго перед этим сидели с Мамой Кошкой на кухне, и она мне всё рассказывала про его последние минуты… и как они накануне долго сидели за этим столом, и никого не было в тот вечер, только они двое, и говорили о его картине, которую он только что закончил. Эта картина, ещё свежая, пахнущая краской стояла на мольберте. Я взглянула на неё и испытала шок. Это был его, Валерия, привет нам с Антошей…
Пять дней назад я была у них, и тоже никого не было, только мы трое, я принесла показать новые рисунки Антона: рисунки города Дерефана. И ещё один чудный рисунок – Маленькая Птичка с большим тюльпаном в клюве. Птица Голофомэ. Валерий Всеволодович сказал:
– Я буду это писать! Ты можешь мне оставить этот рисунок?
– Конечно!
Это было 2 мая.
Он ушёл 7 мая 1981 года.
И вот я вижу на его последней картине – Маленькую Птичку с большим цветком в клюве… Людмила Фёдоровна стоит рядом и тоже смотрит на картину.
– Он не успел дать ей название, – говорит она тихо. – Я назову её «Завет». Ведь это его завет нам…
Мы долго сидели на кухне, и всё казалось – сейчас Валерий войдёт на кухню, и скажет какую-нибудь свою шуточку, чтобы смутить меня, например: «Люся! Романушка говорит, что у тебя в холодильнике припасено очень вкусное варенье, которое она давно хотела попробовать!» А я начну, как всегда, отнекиваться, а он стрельнёт в нас голубым глазом и довольно засмеётся…
Потом мы разошлись по комнатам, Людмила Фёдоровна – к себе, я – в комнату Валерия, и обе пытались уснуть…
Я лежала на его диванчике, на котором он вчера умер. Нет, мне не было страшно. Я вообще не верила, что он умер, не могла это вместить в себя… Я уже много раз спала на этом диванчике, а он в это время обычно был в Крыму… Я лежала среди своего любимого рая, среди райских камней и черепков, среди райских окон-картин в другие измерения жизни, среди волшебных сиреней, среди дивных запахов этого дома (свежей краски и пыли)… и не верила, не могла поверить, что моему любимому раю пришёл конец… Что мой любимый брат никогда не наденет этот вымазанный краской передник и не возьмёт в руки кисть…И не ударит весело в эту медную тарелку… И не выбежит на лоджию и не помашет мне из своего волшебного сада… И не будет долго-долго смотреть мне в след…
Если это правда, то как же ТЕПЕРЬ жить?… Где взять силы, чтобы в очередной раз лепить радость из мелких черепков?… Из больно ранящих осколков…
Но я не имею права горевать. Не имею права громко плакать. Потому что за стеной – Людмила Фёдоровна, моя драгоценная крёстная, моя любимая Мама Кошка, и я должна быть ей опорой. Я не имею права умирать от горя, потому что дома меня ждёт мой сынок, которому, вернувшись домой, я должна буду улыбнуться… Слава Богу, я не одна на свете. Но именно поэтому я на многое не имею права. Умереть от тоски – эта горькая роскошь не для меня… Я должна быть сильной. Ты мне поможешь в этом, братец Валерий? Мой любимый названный брат… Спасибо, спасибо, спасибо тебе за всё! За то, что ты назвал меня своей сестрой. За то, что ты был. За то, что ты есть. Но неужели ты никогда больше не посмотришь на меня искоса своим острым голубым глазом, с прищуром, выставляя передо мной свою новую картину?… Неужели, подходя к дверям вашей квартиры, я никогда больше не услышу топот бегущих ног и твой возглас: «Люся, это пришла она, сестрица!»
Я перевернула мокрую от слёз подушку (его подушку), тщетно пытаясь уснуть, но так и не уснула в ту ночь…
* * *
Через несколько дней. Бродили с Антошей и с Юрой Комаровым на побережье нашего залива, до ночи… На высоком берегу горел костёр, мы подошли и долго-долго смотрели в его пламя…
И всё не верилось и не верилось…
* * *
Грустный пост-скриптум.
А в начале следующей весны… в начале следующей весны… вышла из печати моя книга «Лунные цирки». Вот такие в те времена были скорости: на обложку мне дали одни сутки, и книга спешно ушла в печать. А вышла из печати почти через год!
И всё же она вышла.
* * *
Прежде всего, я пошла дарить книгу Егору Исаеву. Если б не он – книги бы не было.
Исаев обитал теперь в огромном, шикарном кабинете за высокими дверями, хотя ему, мне кажется, больше шёл его маленький прокуренный кабинет в «Совписе» и вороха рукописей на столе…
К тому времени мне практически перестали давать рукописи на рецензию в поэтической редакции, и в Литконсультации тоже (всех начальников я допекла своим «непослушанием»!), и было нам с сыночком трудно, очень трудно…