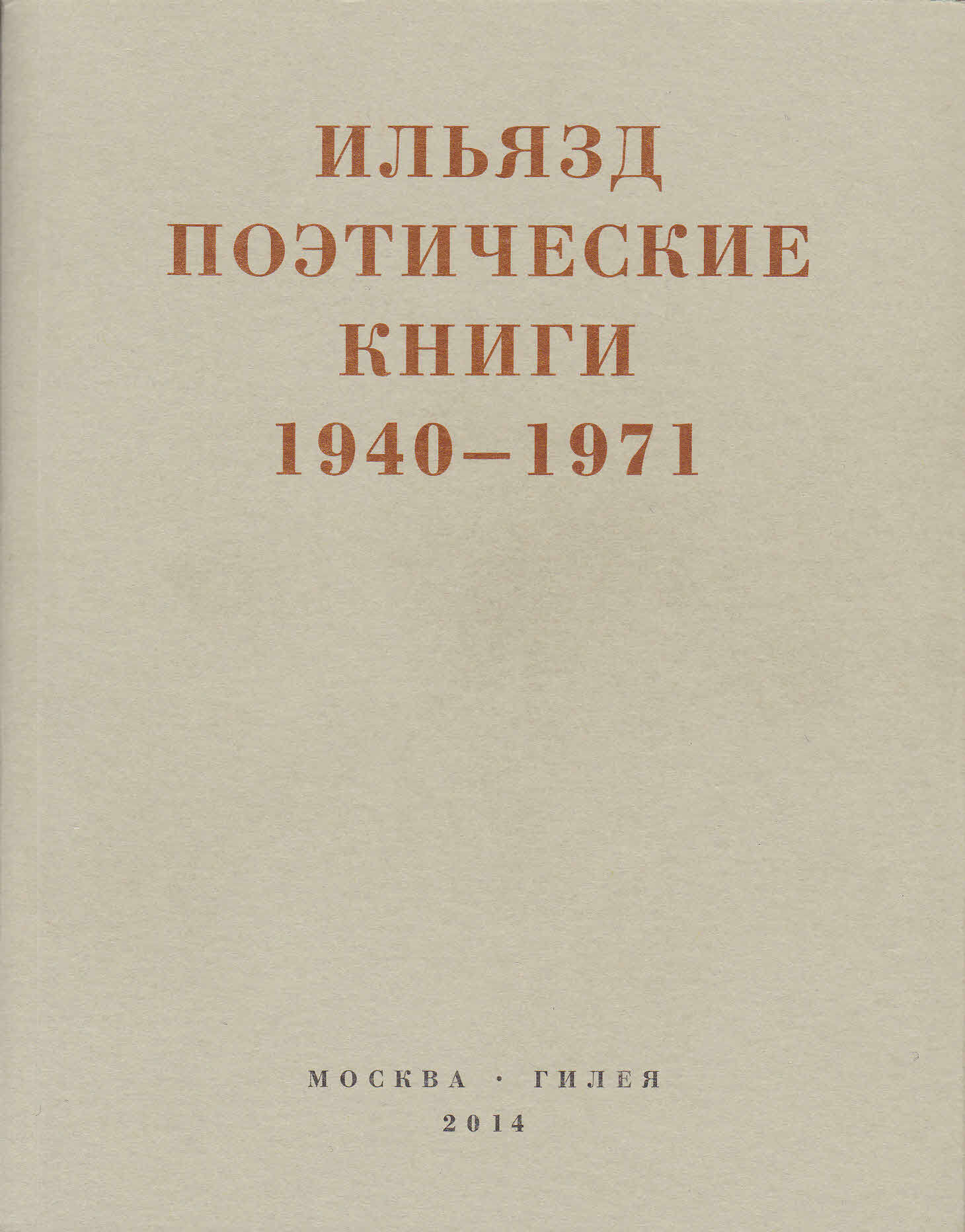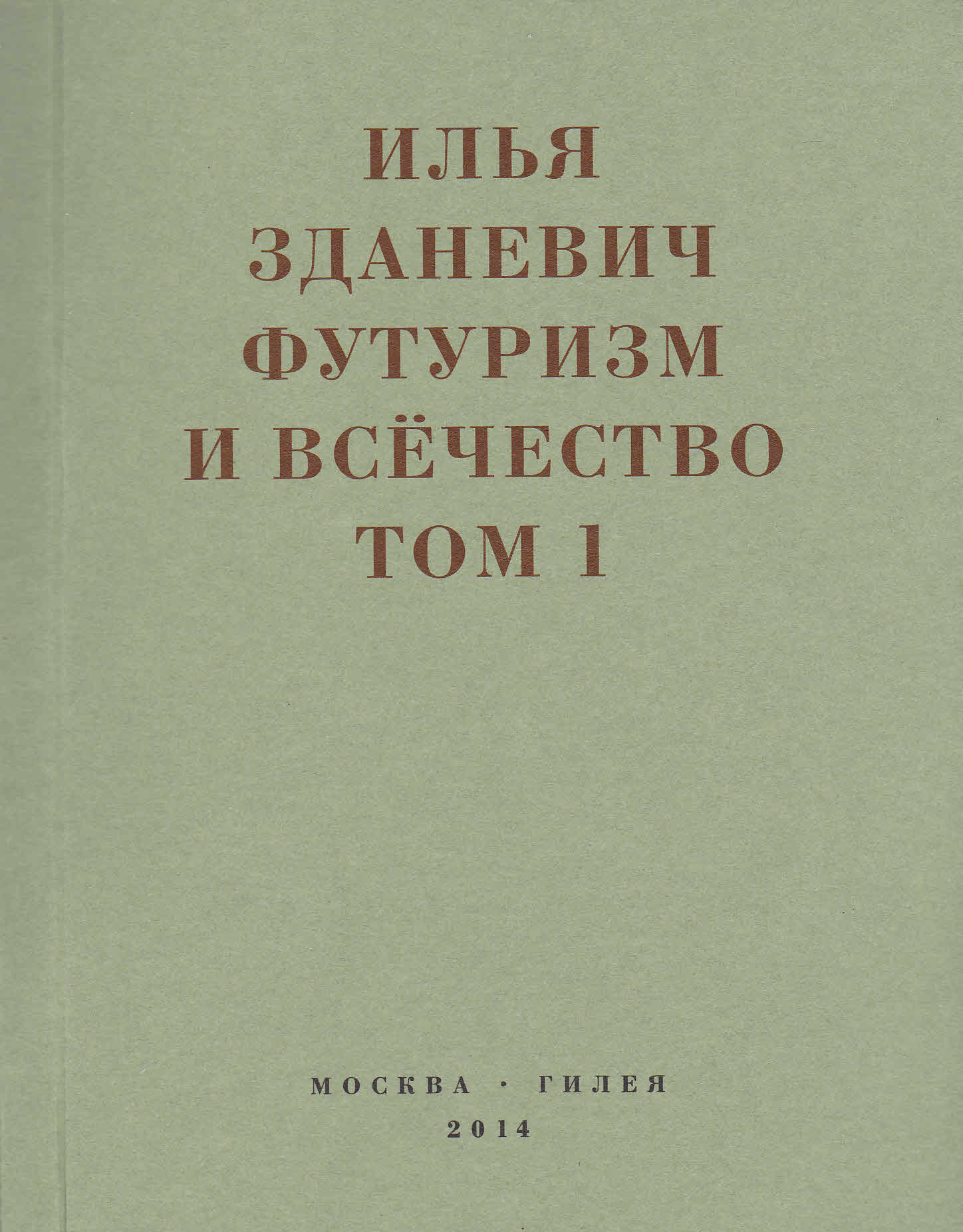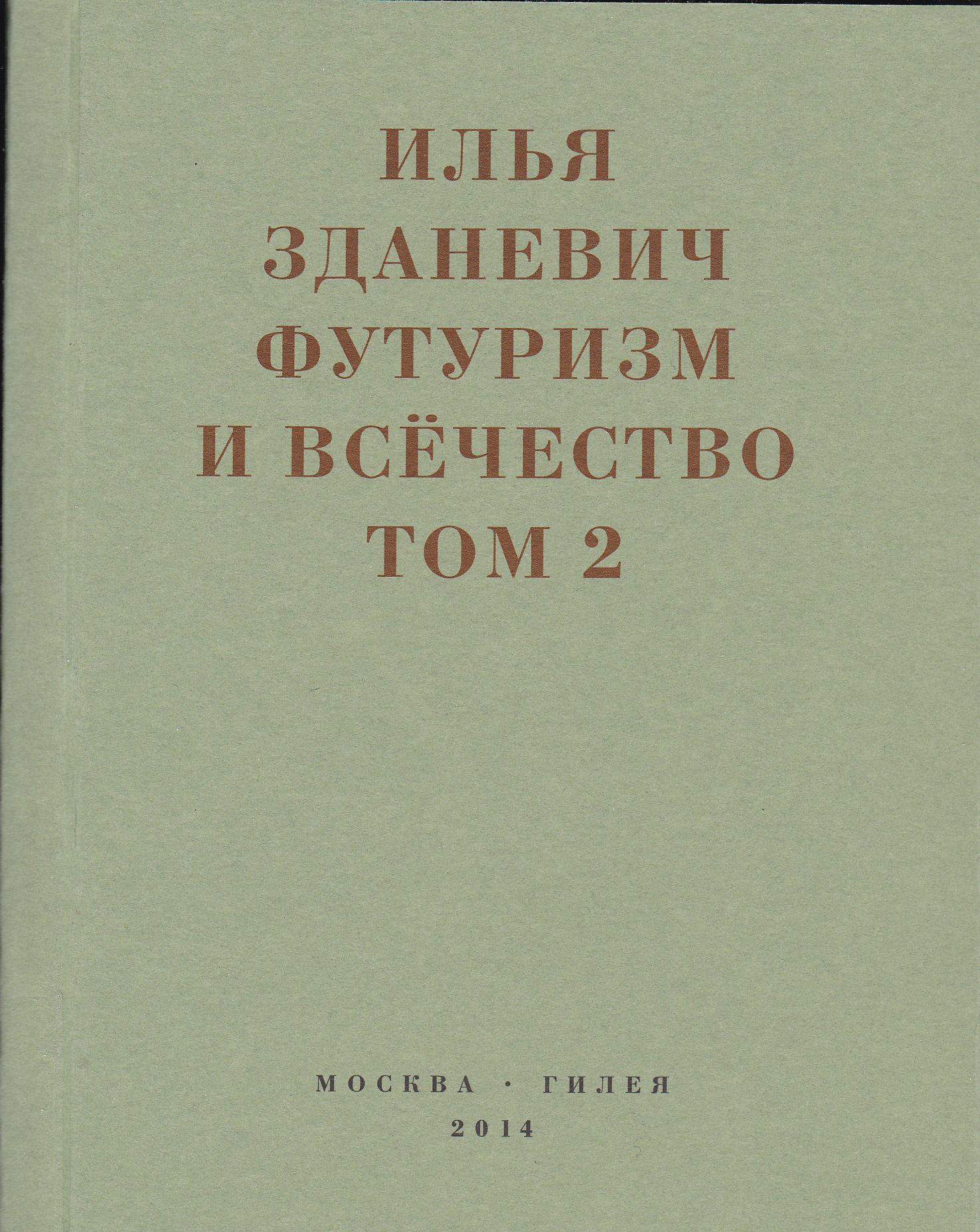этого, мог бы безо всякого труда стать во главе русских беженцев и остатков Белой армии [243].
– Вот вождь, каковой нам надобен, – был единогласный крик, вырывавшийся из беженских грудей. Но Синейшина не только ничего не предпринял в этом направлении, напротив, он оставался по-прежнему почти невидимым, неуловимым, может быть, призраком, и среди тысяч его восторженных поклонников едва ли можно было найти сотню лично знавших его, да и то, все ли говорили правду? Ильязд, разумеется, знал, почему Синейшина скрывается, попробуй он выступить на собрании или перед армией – не надо было бы срывать и бороды при таком акценте, но эта невидимость только возносила Синейшину ещё выше, делала его богом, искусителем и ещё чёрт знает чем в разгорячённом воображении российских оборванцев.
Конечно, в саду Ильязд поступил сгоряча. Но если бы ему удалось наткнуться на Синейшину в обществе и сорвать с него бороду, попытка могла удаться. Но так как Синейшина на собраниях, где был Ильязд, вовсе не показывался и отсутствие его объяснялось то опасением перед покушением, то тем, что он был в поездке на Галлиполи и тому подобное, то всё продолжало идти своим чередом: перешёптывались о новых транспортах оружия и необходимости новых сумм, о предстоящем успехе дела, и время тянулось однообразно и неотвратимо.
Ильязд принуждён был внутренне восторгаться умением Синейшины и в то же время бранить себя за промедление. Несколько месяцев назад, реши он действовать, его разоблачения могли сыграть роль. Но если бы теперь он попробовал рассказать кому-нибудь, хотя бы Яблочку, что их вождь, спаситель и прочая, и прочая не только не присяжный поверенный, а всего-навсего обрезанный турок, сволочь и провокатор, его самого, Ильязда, приняли бы за сволочь и провокатора, и в лучшем случае дело кончилось бы новым мордобоем. Поэтому приходилось пока молчать и искать несомненных доказательств двуличности Синейшины и того, какая всему русскому воинству подготовляется чудовищная западня.
Он ничуть не страдал от сознания, что эти несчастные идиоты обрекают себя на избиение. Какого чёрта! Пусть передохнут все эти идиоты и хамы! Так им и надо. Но какое-то затаённое чувство мешало ему допустить подобную бойню, и чем больше стадо беженцев курило фимиам провокатору, тем настойчивее хотелось не допустить его триумфа. Но каким образом?
Вечером (когда золотой рог полумесяца снова повис над Золотым Рогом) Ильязд переоделся, напялил феску и, гордый своей трёхсуточной бородой, отправился, вопреки всему, в Стамбул, но не по Чёрной деревне, а через дырявый мост. Время было действительно превосходное. Сложив крылья, барки дремали, укачиваемые ветром. Навигация прекратилась до утра, на Роге стояла невероятная тишина, и если [бы не] всплеск вёсел, доносившийся откуда-то из далёкой дали, можно было не заметить её присутствия. Но звук освещал её, и было видно, как она навалилась, чудовищная, на запоздалых прохожих, на уснувшие барки, на загоревшие огни. Но вовремя грянули заводные пианино. Неожиданно звуки их срывались с возвышенных берегов, возмущали воду, делали воздух легчайшим и отгоняли от сердца тревогу. Огни зажигались всё выше по берегам, на вершинах холмов и выше, пока город не плыл весь к морю, окружённый тысячами и тысячами разнообразных звёзд.
Но веселье было далеко. Фанар, а за ним Балата тонули в молчании и вражде. Какой-то голос, не то далёкий, не то совсем близкий, с наслаждением нарушал тишину уже успокоившихся, но продолжавших быть раздражёнными дневной сутолокой кварталов. За глухими стенами обломки славных имён византийской знати видели сны своего нарушенного и не возвращающегося владычества. До какой степени последние десять лет эти сны готовы были стать явью! [244] Эллины уже подошли к стенам, эллины уже вошли в город. София, София, и всё-таки явь была иной и ещё более тревожными и мучительными – сны. Тщетно пытался определить Ильязд, поворачивая из одной улочки в другую, спускаясь и подымаясь, откуда исходил этот голос. Неизвестно. Струился поверх стен, затихал, возрастал, полный меланхолии и сожалений, усиливался, когда далёкие пианино пытались его покрыть, опускался, когда тишина вступала в права, часы проходили, ночь углублялась, но песнь не переставала умолкать. Путник, зачем он оставался, медлил в этом городе, которого он не знал – ни содержания, ни глубин. В городе, где голоса выходят из-под камней, из-под земли растекаются, в городе, смысл которого не был и не будет понят никем, и который, умирающий, вскоре так и исчезнет, не раскрыв своей византийской тайны [245].
Свет. Озилио точно ждал посетителя. Сквозь чрезвычайно грязные стёкла его четвертованного окна было, однако, видно, что он сидел посередине комнаты за столом. Ильязд вошёл, постучав, но не дожидаясь ответа. Стол был покрыт исписанными листами, таблицами, фигурами. На стенах всё те же звери и люди, те же свитки в углу. Ничего не изменилось с прошлого раза.
Озилио не поднял головы и ничего не сказал. Согласно обыкновению, он остался погружённым в мысли, не отрываясь от измаранного клочка, и только долго спустя он откинул голову с закрытыми глазами и запел – это был его голос. Это он пришёл к Ильязду под его окна петь серенаду любви, он в течение часов уходил от него, он заманил его сюда на высоты, на последнюю окраину. Этакая сирена! Петь таким женским голосом, предложить Ильязду то, чего ему так не хватало, о чём он томился, и в ответ на возникающую влюблённость, на его мечты о красавице преподнести личину противного старика, погружённого в одну и ту же невыносимую до тошноты философию.
И как нарочно, чтобы подчеркнуть, усилить сие противоречие, Озилио не переставал. Он повторял самые душевные мотивы, самые бесконечно малые просьбы, бесконечно большие признания. И Ильязд, вместо того чтобы негодовать, возмущаться, также зажмурил [246] глаза и, еле покачиваясь на стуле, слушал удивительную женскую песнь.
Давно прекратилась она. Он раскрыл глаза от удара по плечу. Костлявый Озилио теперь стоял перед ним с лицом, встревоженным до последней степени.
– Ты видел сны, а теперь увидишь действительность, я привёл тебя потому, что тебе угрожает великая опасность.
– Опасность? Но мне всё время угрожает опасность. Какое мне до неё дело? Наставления, размышления, этого более чем достаточно. Спой ещё, спой ещё, лучше дай мне почувствовать себя хотя бы во сне [247] счастливым.
Пустые слова. Разве существует для Озилио человеческое? Он сокрушался, ломал в отчаянье мебель, стуча единственным стулом по полу с такой силой, что вскоре в его руках осталась только спинка [248]. Но это отчаянье было страхом и отчаянием при мысли о гибели его философских сокровищ, а не его чувств. Человеческое, какое значение имеет это? Не стыдно ли Ильязду поддаваться на голос пери? Озилио пел,