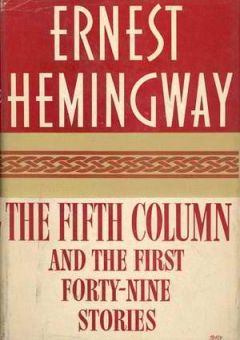на пустыре продолжали играть в бейсбол, теперь стало совсем прохладно. Молодой человек расстегнул кобуру и положил свой большой пистолет у бедра. Потом заснул.
Когда он проснулся, было темно, сквозь листву лавровых деревьев пробивался свет стоявшего на углу улицы фонаря. Он встал, прошел к фасаду дома, держась в тени под прикрытием стены, и посмотрел сначала в один, потом в другой конец улицы. Мужчина в соломенной шляпе с узкими полями и плоской тульей стоял на углу под деревом. Энрике не мог различить цвет его куртки и брюк, но это был негр.
Энрике быстро перешел к задней стене дома, но там совсем не было света, кроме того, что сеялся на заросший сорняками пустырь из окон двух соседних домов. В темноте могло прятаться сколько угодно людей. Это было вероятно, но слышать, как днем, он теперь ничего не мог из-за громко работавшего во втором от него доме радио.
Вдруг раздался механический звук сирены, нараставший крещендо, и волна мурашек прокатилась по коже его головы. Она нахлынула так же стремительно, как румянец заливает щеки, как огонь обжигает кожу, но так же стремительно и миновала. Сирена прозвучала из радиоприемника: это была заставка рекламы, и за ней последовал голос диктора: «Зубная паста “Гэвис”. Неизменная, непревзойденная, лучшая».
Энрике усмехнулся в темноте. Пора бы уже было кому-нибудь прийти.
Рекламная заставка прозвучала снова, вслед за ней раздался младенческий плач, и диктор объяснил, что унять его можно только с помощью детского питания «Мальта-Мальта», а потом послышался автомобильный клаксон, и покупатель потребовал грин-газа: «Не рассказывайте мне сказки! Мне нужен грин-газ. Он более экономичный и менее расходный. Самый лучший».
Энрике знал всю эту рекламу наизусть. Она нисколько не изменилась за те пятнадцать месяцев, что он провел на войне; на радиостанциях, должно быть, до сих пор крутили те же самые старые записи, и тем не менее эта сирена захватила его врасплох и заставила покрыться мурашками кожу на голове, что было инстинктивной реакцией на опасность – как стойка охотничьей собаки, учуявшей теплый дух перепела.
Когда-то, в самом начале, этих мурашек не было. Тогда опасность и страх вызывали у него ноющее чувство пустоты в желудке, слабость, как при лихорадке, и оцепенение, когда ноги отказывались нести его вперед, словно парализованные. Теперь все это прошло, и он безо всяких усилий выполняет все, что должен выполнить, в любой обстановке. Из огромного набора проявлений страха, которые вначале бывают свойственны даже некоторым исключительно храбрым людям, у него теперь были только эти мурашки. Только они свидетельствовали о его реакции на опасность, если не считать усиленного потоотделения, которое, как он знал, останется навсегда, но теперь оно служило лишь предупреждением, не более того.
Пока он стоял, глядя на улицу, где человек в соломенной шляпе сидел теперь под деревом на бордюре тротуара, на кафельный пол террасы упал камешек. Энрике поискал его под стеной, но не нашел. Он пошарил рукой под раскладушкой, там тоже ничего не было. Когда он опустился на колени, еще один камешек ударился о кафель, подскочил и откатился в угол. Энрике поднял его. Это был гладкий на ощупь обычный голыш, он положил его в карман и, войдя в дом, спустился по лестнице к задней двери.
Остановившись сбоку от нее, он достал из кобуры свой тяжелый кольт и держал его в правой руке наизготовку.
– Победа, – очень тихо произнес он по-испански, при этом губы его презрительно изогнулись, и он на босых ногах неслышно перешел на другую сторону двери.
– Для тех, кто ее заслуживает, – быстро и прерывисто откликнулся кто-то из-за двери. Ответную часть пароля произнес женский голос.
Энрике отодвинул двойной засов и открыл дверь левой рукой, не выпуская кольта из правой.
В темноте на пороге стояла девушка с корзинкой. На голове у нее был повязан платок.
– Привет, – сказал Энрике, закрыл дверь и задвинул засов. В темноте он слышал ее дыхание. Он взял корзинку и похлопал девушку по плечу.
– Энрике, – сказала она.
Он не мог видеть выражения ее лица и того, как сияли ее глаза.
– Пойдем наверх, – сказал он. – Там, на улице, кто-то следит за домом. Он тебя видел?
– Нет, – сказала она. – Я прошла через пустырь.
– Я тебе его покажу. Пошли на террасу.
Они поднялись наверх, Энрике нес корзинку. Он поставил ее на пол возле кровати, подошел к краю террасы и посмотрел вниз. Негр в шляпе с узкими полями и плоской тульей исчез.
– Итак, – тихо сказал Энрике.
– Что – итак? – спросила девушка, взяв его за руку и тоже выглянув на улицу.
– Итак, он ушел. Что ты принесла поесть?
– Прости, что тебе пришлось просидеть здесь целый день одному, – сказала она. – Глупо было ждать темноты. Я весь день хотела прийти.
– Глупо было вообще выбрать такое место. Меня еще до рассвета высадили с лодки, привели сюда, в дом, за которым ведется наблюдение, и бросили, сказав пароль, но не оставив еды. Паролем сыт не будешь. Не следовало приводить меня в дом, за которым наблюдают по каким-то иным причинам. Только кубинцы могут такое придумать. Но в былые времена нас, по крайней мере, кормили. Как ты, Мария?
Она поцеловала его в темноте, горячо, в губы. Он почувствовал упругость ее пухлых губ и дрожь, пронизывавшую ее тесно прижавшееся к нему тело, и тут резкая боль ножом вонзилась ему в поясницу.
– Ай-ай! Осторожней.
– Что такое?
– Спина.
– Что с твоей спиной? Ты ранен?
– Увидишь, – сказал он.
– Покажи сейчас.
– После. Мы должны поесть и убраться отсюда. А что тут прячут?
– Кучу всего. То, что осталось после апрельского поражения. И что нужно сберечь на будущее.
– Отдаленное будущее, – уточнил он. – Они знали, что за домом следят?
– Уверена, что нет.
– Так все-таки что здесь?
– Винтовки в ящиках. Упакованные боеприпасы.
– Сегодня же ночью все нужно вывезти, – сказал он с набитым ртом. – Годы работы предстоят, прежде чем все это понадобится снова.
– Тебе нравится escabeche [98]?
– Очень вкусно. Иди, сядь рядом.
– Энрике, – сказала она, садясь и тесно прижимаясь к нему. Положив одну руку ему на бедро, другой она нежно поглаживала его по затылку. – Мой Энрике.
– Прикасайся ко мне осторожно, – сказал он, продолжая жевать, – со спиной у меня плохо.
– Ты рад, что вернулся с войны?
– Я об этом не думал, – сказал он.
– Энрике, а как Чучо?
– Погиб под Леридой.
– А Фелипе?
– Убит. Тоже под Леридой.
– А Артуро?
– Убит под Теруэлем.
– А Висенте? – спросила она бесцветным голосом, теперь обе ее ладони покоились на его бедре.
– Убит. На дороге в Селадас, во время наступления.
– Висенте – мой брат. – Она убрала ладони с его ноги и сидела теперь оцепеневшая и отрешенная.
– Я знаю, – сказал Энрике. Он не переставал есть.
– Он – мой единственный брат.
– Я думал, ты знаешь, – сказал Энрике.
– Я не знала, и он мой брат.
– Мне очень жаль, Мария. Мне следовало сказать тебе это как-то по-другому.
– Он действительно мертв? Ты