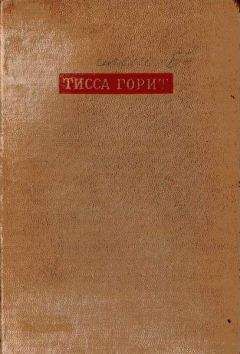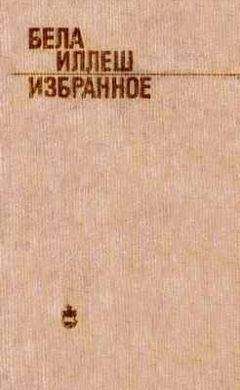— Твой отец — негодяй и сгнил в тюрьме. А тебя рано или поздно повесят!
С тех пор мне стало легче жить. Вечерами, по возвращении из железнодорожных мастерских, мне уже не приходилось снова браться за работу в седельной мастерской. И в рабочий клуб я ходил беспрепятственно. Дядя попрежнему отбирал у меня весь мой заработок. Он заявил, что уже не тревожится за мою будущность; но если я посмею развращать его учеников, как меня развращает Гайдош, то он с меня шкуру спустит, потому что за них он отвечает перед богом и людьми.
Объявление войны явилось для меня необычайно радостным событием. Жизнь в городе была смертельно скучна и уныла. Я всегда жил в надежде на какую-нибудь перемену, на какое-нибудь внезапное событие, которое бы выбило меня из привычной колеи, но за два года, проведенные мной в городе, никаких событий так и не произошло. И вдруг — война! Наконец-то нечто необычайное, возможность пережить интересные события!
Помимо того я был социал-демократом, а потому не мог не радоваться объявлению войны. Свою принадлежность к социал-демократической партии я должен был, понятно, тщательно скрывать, иначе бы меня немедленно уволили из мастерской. Но радоваться войне я мог открыто.
В день объявления войны Карл Немеш — адвокат, игравший в рабочем клубе видную роль, — выступил перед рабочими железнодорожных мастерских с большой речью. С балкона квартиры начальника станции он говорил:
— Каждый честный рабочий, каждый социал-демократ должен восторженно встретить объявление войны. Эта война — священная война, эта война — за освобождение. На острие наших штыков несем мы свободу рабам русского царя — нашим товарищам!
Мы ответили ему восторженным «ура».
Вечером в городе устроили иллюминацию и шествие с факелами. Я, понятно, принимал участие в процессии и до хрипоты распевал:
Погоди, проклятая Сербия,
С монархией в спор не вступай!
Не уступят венгры и на поле сраженья
Крови не пожалеют!
Гайдош в процессии не участвовал. На следующее утро, по дороге в мастерские, я ему рассказал обо всем виденном и слышанном накануне. Он в ответ промолчал. Видимо, он не был заражен общим восторгом.
На домах был расклеен приказ о мобилизации.
Ничего хорошего война с собой не принесла. В мастерских нас заставляли работать все больше и больше, дома же пища становилась все скуднее. Дядя где-то вычитал, что англичане проиграли последнюю войну из-за недостатка съестных припасов.
— Это мой долг перед родиной и королем, — заявил он, давая ученикам уменьшенные порции. — Хоть этим я помогу родине, раз уж не в силах послужить ей на бранном поле.
Наш город являлся узловым пунктом: одна линия вела на запад, а три в Галицию, к русской границе. С момента объявления мобилизации во главе мастерских был поставлен поручик. Кроме того, на станции было расквартировано четырнадцать солдат под командой унтер-офицера. Никогда еще не случалось мне видеть столько поездов, как тогда. Поезда, шедшие на север, везли солдат, боевые припасы и провиант. Поезда, прибывавшие с фронта, были переполнены ранеными.
С самого начала войны в мастерских отменили воскресный отдых. Свой паек мы продолжали получать почти аккуратно даже на третьем году войны. Рабочие же других предприятий часами простаивали перед лавками в очередях. Все так или иначе были сильнее заняты, чем в мирное время, и тем не менее мы все больше времени проводили в рабочем клубе. Число его посетителей неуклонно росло. Начальник городской полиции, «стремясь избавить, — как он выразился, — от излишнего утомления рабочих, и без того заваленных усиленной работой и не получающих, к сожалению, достаточно продуктов», предложил руководителям кружков самообразования сократить число уроков. Программу обучения Немеш, во избежание возможных недоразумений как для преподавателей, так и для учеников, уже заранее сообщил начальнику полиции.
С осени 1917 года нам, рабочей молодежи, разрешили посещать только уроки арифметики и правописания. Последнее преподавал Секереш, бухгалтер химической фабрики. Я очень полюбил его и многому у него научился. Он обладал широкими познаниями, любил преподавание и умел говорить с нами понятным языком. Обучая нас орфографии, он писал сперва фразу на доске, а потом заставлял нас — девятнадцать учеников — по нескольку раз списывать эту фразу в тетради. По окончании урока Секереш собирал тетради и к следующему уроку возвращал их нам, исправив ошибки красными чернилами.
Никогда не забуду последнего урока, происходившего в первый день после рождественских каникул.
Первое, что Секереш в этот день написал на доске, было:
«РУССКИЕ РАБОЧИЕ И КРЕСТЬЯНЕ ВЗЯЛИ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ВЛАСТЬ В СВОИ РУКИ»
Затем мы должны были переписать:
«ТОЛЬКО ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
СПОСОБНА ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ВОЙНЕ».
Помню также, что последняя переписанная нами фраза гласила:
«ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!»
С Карпат дул сильный ветер. Перчаток у меня не было, и я шел, запрятав руки в карманы пальто. В одном кармане я нащупал листочек бумаги, на котором что-то было напечатано на машинке. Дома я прочел его:
«ПЕРЕСТАНЬТЕ УБИВАТЬ ЛЮДЕЙ!
МЫ ТРЕБУЕМ МИРА».
На следующее утро я, как обычно, зашел за Гайдошем.
— Нет ли у тебя ящика или сундука, которым никто кроме тебя, не пользуется? — спросил он.
— Есть. Свой сундук я запираю на замок.
— Тогда спрячь к себе в сундук вот это, — сказал он и вытащил из-под соломенного тюфяка завернутую в клеенку пачку. — Может случиться, что ко мне придут с обыском, — добавил он.
Дрожащими руками я взял у него пачку. В горле у меня пересохло, и я не в силах был произнести ни слова.
— Хорошо, — сказал я, наконец, — спрячу.
Я кинулся в свою каморку — там никого не было. Ученики уже с час как работали в мастерской, моя мать стояла в очереди за провизией, а дядя еще спал крепким сном. Неслышно, как вор, вытащил я сундук из-под кровати и минуту спустя был уже снова во дворе.
— Ну, как?
— Все сделано.
По дороге Гайдош торопился объяснить мне:
— Если меня сегодня арестуют, то эту пачку ты снеси военному врачу Гюлаю. Знаешь его?
— Тот, что живет на улице императора Вильгельма?
— Он самый. Передай ему пачку и скажи, что от меня.
— Хорошо.
Некоторое время мы молча шли рядом. Сердце у меня билось учащенно. Гайдош же, как ни в чем не бывало, насвистывал песенку.
— Вот что, Петр, — сказал он вдруг, — сегодня утром мы, по всей вероятности, забастуем. А ты бастовать будешь?
— Еще бы! — обиженно воскликнул я.
— Погоди-ка немного, — сказал Гайдош с улыбкой, — ты да еще десяток людей не должны бастовать. Вам предстоит задача посложней. Начальник станции затребует, вероятно, солдат для замены бастующих. Вам, якобы штрейкбрехерам, надо так все перепутать на станции, чтобы никому потом не удалось что-либо наладить. Понял?
— Понял. А что… затем будет?
— Затем начальник станции выкинет вас вон, а может быть и в тюрьму упрячет…
В мастерской все шло вверх ногами. Ночью у многих произведены были обыски, и четырнадцать человек арестовали: девять железнодорожников и пятерых с химической фабрики. В числе последних был и Секереш.
Во дворе мастерских, против квартиры начальника станции, состоялся импровизированный митинг.
Первым выступил машинист, а вслед за ним Гайдош. То, о чем вчера еще решались говорить лишь шопотом, один-на-один, сегодня произносилось открыто перед четырьмястами слушателей.
— Хватит с нас!.. Долой войну!.. Довольно голодали!.. Русские предлагают нам мир!.. Хотим мира!..
Когда Гайдош прочел требования рабочих, толпа разразилась восторженными криками.
Рабочие потрясали кулаками, железными прутьями и молотами. Семафор был закрыт, и поезд, груженный снарядами, остановившись перед станцией, тщетно требовал пронзительными свистками открытия пути. Ни коменданта, ни начальника станции нигде не было видно.
Гайдош еще говорил, когда к станции на автомобиле подкатил Немеш. Он взял слово. В черном, наглухо застегнутом зимнем пальто, без шляпы, он походил на патера, проповедующего с церковной кафедры.
— Товарищи…
Он начал говорить успокоительно и мягко, но буря возгласов тотчас же заглушила его слова.
— Долой войну!
— Мира хотим, мира!
— Да здравствует русский пролетариат!
— Товарищи, — пытался продолжать Немеш, и в голосе его послышались раздражение и угроза, — если вам и впрямь дорого всеобщее, равное, тайное избирательное право…
— Мира хотим! — неслось отовсюду. — Того же, что и русские товарищи!..
— Что вы толкуете о примере русских товарищей! — уже с озлоблением крикнул Немеш. — Раньше, чем о нем говорить, нужно в нем внимательно поразобраться. Ваш большевизм еще слишком незрел, в нем много ребяческого…