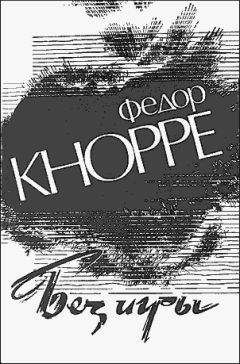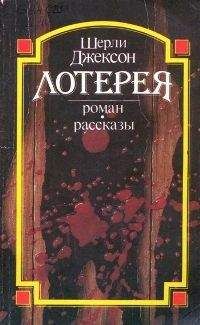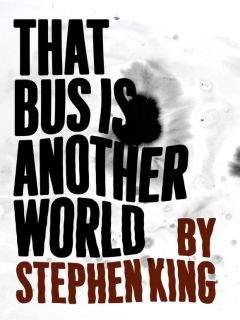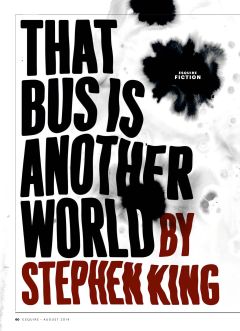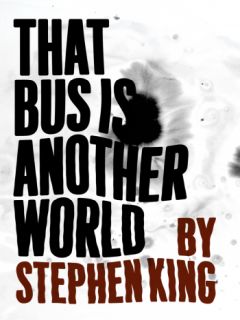— Дальше я уж и сама, кажется, знаю, — тихонько откликнулась Наталья Павловна.
— Нет еще, нет! — торопливо проговорил он.
Ему хотелось рассказать все, что он помнил и видел дальше, но слова были непослушные, беспорядочно, мешая друг другу, толпились, толкали друг друга, как овцы у тесного выхода из загона, где их очень долго держали взаперти.
Он живо вспомнил, как в воздухе явственно тянуло горьковатым дымком, когда он отворил жиденькую калитку и ступил на хрустнувшую дорожку. Под навесом у земли пламенел кружок отверстия самоварной трубы, из которого с треском вылетали искры.
— Это кто? — услышав его шаги, равнодушно спросил женский голос.
Чья-то рука сняла с самовара трубу, и он увидел точно опаленное огненным отсветом лицо девушки. Прижмурясь от дыма, отодвигая лицо, она воткнула пучок лучинок в самовар, наставила на место трубу и выпрямилась, опять погрузившись во мрак, но он уже запомнил ее лицо и, как бы продолжая его видеть в темноте, спросил про Наташу.
— Что-то такое давно про нее слышала. По-моему, она куда-то уехала, скорее всего в неизвестном направлении. А вам она на что?
— Девушка, я вас очень серьезно спрашиваю.
— Почему вы воображаете, что девушка? Может, я бабушка, внучатам чай кипячу.
— Да я видел ваше лицо, когда вы лучину подкладывали.
— Ах так? Какое же у меня лицо?
— Симпатичное. Волосы светлые. Глазки маленькие.
— Ничего подобного. Это от дыма я сощурилась. Ничего не разглядели. Как раз глаза лучше всего. Да ладно: кто вы такой этой уехавшей Наташе приходитесь?
— Не знаю, как вам объяснить... Мне бы ее повидать. Ну, знакомый.
— Что вы говорите? Никогда бы не догадалась. Досадно, что не застали. Уехала. А как у вас там дома, хоть благополучно все?
— В каком это доме?
— Почем я знаю. Есть же у вас какой-нибудь дом. Из вежливости спрашиваю, не понимаете? Вот самовар закипать собирается, пойду внучат поить.
Он продолжал ясно видеть, даже как бы разглядывать лицо девушки, совсем молодое, кажется, очень миловидное, со вздернутой верхней губой, от которой и коротенький нос казался вздернутым.
— Ничего не понимаю. Она действительно уехала?
— Да, да, она обещалась адрес прислать, когда устроится на новом месте. Так что ей про вас написать можно? как Степаниды здоровье? Ничего, держится?
— А они ей оттуда разве не пишут? Из дому-то?
Самовар вскипел, буйно забурлил, девушка сняла и отставила трубу к стенке под навес. Дожидаясь, когда совсем прогорит лучина, она строго разглядывала Митю. Взгляд был очень настороженный, пытливый.
— Является! — сказала она недружелюбно. — Отвечай ему. А кто такой, неизвестно. Может, просто хотел самовар утащить, а?
Выспросив его имя, фамилию, откуда приехал, она вдруг сурово, но чуть помягче сказала:
— Берите самовар, несите за мной в дом, там мы выясним! Под ноги глядите, темно, еще шлепнетесь на пороге, самовар уроните, помнете. А он у нас единственный ребенок.
Он взялся за маленькие откидные ручки, поднял с земли и, отставляя от себя подальше горячий, сердито бурчащий самовар, понес следом за девушкой.
Девушка распахнула из темного коридора дверь в комнату, неярко залитую спокойным светом керосиновой лампы под молочно-матовым стеклянным абажуром, и посторонилась, пропуская его с самоваром вперед. Он шагнул через порог и, искоса приглядывая за самоваром, увидел три тесно сдвинутые у стен, как в общежитии, кровати. На одной из них сидела девушка в платье без рукавов. Оборачиваясь на входивших, она машинально сделала движение, чтоб обдернуть подол коротенького, сильно выгоревшего ситцевого платьица, далеко не доходившего ей до колен. Ее голые ноги по щиколотки были погружены в таз с водой. Глаза вспыхнули от безмерного какого-то удивления и остались широко открытыми. Рука сама потянулась еще раз, и опять безуспешно, обдернуть платье, но на полдороге, не закончив движения, остановилась.
— Вот, Наташа, тут один очень подозрительный авантюрист, по-видимому, пытался украсть наш самовар, но я его вовремя поймала. Привела для опознания. Ну как?
Наташа, совсем не та Наташа, которую он знал, какая-то новая, незнакомая девушка, про которую он откуда-то знал, что она в то же время Наташа, позабыв, что у нее ноги в тазу, привстала и с размаху села обратно, схватившись обеими руками за край постели. Она так и осталась сидеть, крепко вцепившись руками, точно под ней кренилась палуба готового опрокинуться корабля. Он остановился с самоваром посреди комнаты, вглядываясь ей в лицо; никогда бы он не поверил, что можно так в один вздох, мгновенно побледнеть и через минуту порозоветь снова.
— Опознание произошло! — официальным голосом объявила девушка, которая его привела. — Может вы самовар на стол поставите или так и будете его нянчить на руках? Мне чай надо заваривать.
Вспоминая потом на протяжении своей долгой жизни этот момент, словами он бы мог косноязычно выговорить только что-нибудь вроде: „Я тогда просто ахнул. Обалдел“, хотя необъяснимо помнил все. Наташа в своем застиранном ситцевом платье-рубашке была на десять лет моложе, чем за столом в Степанидином доме. Точно раскололи на ней и сняли тяжкую, каменно затвердевшую гипсовую повязку, и она выскользнула из нее, ожившая, гибкая, свободная и еще какая-то такая, что нельзя объяснить словами, но это чувствуют все, кто внимательно на нее посмотрит. Волосы были на затылке у нее связаны двумя прядями, обыкновенным узлом вместо прически.
Он не глядя, кое-как стукнул самовар на поднос и повернулся к ней. Она порывисто, так, что полетели на пол брызги, выдернула из таза и подобрала под себя ноги и отодвинулась, прижалась спиной к стенке и оттуда как бы издали, смотрела. Губы у нее дрожали и кривились некрасиво, как у готового зареветь в голос капризного или обиженного ребенка. Серые ее, широко расставленные глаза смотрели тем странным (оказывается, ему знакомым) невидящим прозрачным взглядом — точно сквозь него.
— О, хоссподи... Митя...
Голос ее он тоже, оказывается, знал, помнил, точно вчера его слышал, даже легкую его хрипотцу помнил. Ту самую несчастную, из-за которой дирижер хора с сожалением определил, что она никогда как следует на сможет петь.
— Митя, ты... чай с нами будешь? — без улыбки тихонько спросила она, отводя глаза.
Вернулась с работы на телеграфе девушка, с которая они все вместе, втроем, снимали комнатку. Она была тоже не местная, а из эвакуированных и, хотя давно кончилась война, все боялась сдвинуться с места, переменить адрес, уехать, и в каком-то оцепенении ждала, что ее наконец отыщет кто-нибудь из ее большой, разбросанной по миру войной, семьи.
Она все смотрела страдальчески-счастливыми глазами то на Наташу, то на Митю и повторяла:
— Ну, теперь вы видите, как бывает? Вы ведь отыскали адрес и приехали? Да? Так вот это и бывает. Вдруг письмо. Или просто появляется человек. Я очень, очень рада.
В хозяйстве у них оказались три чашки. Чай приходилось пить по очереди, и все наперебой уступали ему первому, угощали кисленьким хлебом с липкими конфетками, и весь вечер до самого конца было похоже, как будто в комнате праздник. Непонятно почему, какой-то общий их праздник. И все дружелюбно звали его Митя, как будто он был для всех троих каким-то общим, без вести пропавшим и вот вдруг счастливо нашедшимся Митей. Одна Наташа неуверенно отводила глаза и только улыбалась слабо...
Была уже поздняя ночь, когда его выпроводили во двор, пока все не улягутся, потом позвали обратно. На полу ему был постелен древний овчинный тулуп и вместо подушки чем-то набитая наволочка.
Оживленная болтовня мало-помалу утихала, перешла в бормотанье и разом оборвалась: все успокоились и заснули. Стало слышно, как за окном мягко шуршит по листьям и неторопливо, мелко стучит по крыше дождик. Немного погодя где-то рядом заплескалась струйка воды, стекавшей по трубе в лужицу. Митя как лег, так и лежал на полу в проходе, в темноте между кроватями, с закрытыми от стеснительности глазами, и не спал. Понять он ничего не мог и не знал даже, с какого конца начинать разбираться: что с ним. Он только чувствовал одно: мне здесь очень хорошо, только бы меня отсюда не выгоняли, только бы быть здесь, носить из-под навеса самовар, пить тут каждый вечер чай с кислыми липучками, знать, что она, эта новая Наташа, тут, слышать ее голос, на который отзывается сейчас же что-то в нем самом такое хорошее, чего он и не подозревал в себе, видеть ее лицо... да хоть бы и не видеть, только знать, что оно тут, рядом. И все это чистое, нежное было точно какой-то желтой ядовитой кислотой облито сознанием, Ужасным сознанием, до чего сам-то он некрасив, грязен и испачкан своей постыдной жизнью, шатанием с Афонькой по шалманам.
Вот она лежит тут рядом в постели, наверное, в том же своем платьице-рубашонке, а он через пелену злого отвращения к самому себе подумать даже не может, чтоб протянуть руку и коснуться ее. То, что было так просто с обыкновенными женщинами, которых он часто знал совсем мало, и даже, чем меньше знал, тем проще, — все это не могло иметь никакого отношения к ней. Он стискивал зубы, отворачивался, но все-таки вспоминал отвратительные обрывки своей жизни и понимал, что нет у него никакого права, никакой надежды хотя бы остаться тут на месте, поблизости, и скоро надо будет уходить, уходить...