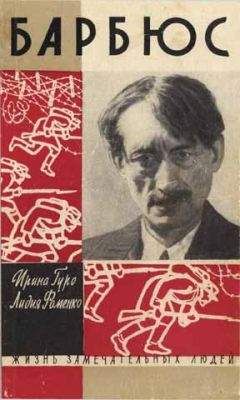Стрелок с усилием, как будто разрывая грязь, отдирается от земли, где под ним образовалось углубление, похожее на мокрый гроб, и садится в этой яме. Он моргает, встряхивает головой, чтоб очистить лицо от комьев прилипшей грязи, и говорит:
- На этот раз мы еще выживем! И кто знает, завтра, может быть, тоже! Кто знает!
Паради, покрытый тяжелыми пластами черной и желтой грязи, старается выразить мысль о том, что войну трудно даже представить и измерить во времени и пространстве.
- Когда говорят о войне вообще, - размышляет он вслух, - как будто не говорят ничего. Слова застревают в горле. Мы здесь смотрим на это, как слепые...
Немного дальше гудит бас:
- Да, все это невозможно себе представить.
При этих словах кто-то внезапно разражается смехом:
- Да и как это представить себе, не побывав здесь?
- Для этого надо рехнуться! - говорит стрелок.
Что-то лежит; Паради нагибается.
- Спишь?
- Нет, но никуда не двинусь, - сдавленным, испуганным голосом отвечает комок, покрытый илистым чехлом, таким бугорчатым, как будто его истоптали. - Вот что я тебе скажу: у меня, наверно, пробит живот. Но я в этом не уверен, а посмотреть боюсь.
- Давай поглядим...
- Нет, пока не надо, - отвечает раненый. - Я еще немножко полежу.
Другие слабо шевелятся, шлепают, ползут на локтях; сбрасывают с себя адский липкий, давящий покров. Понемногу у этих мучеников оцепенение холода проходит, хотя дневной свет больше не разгорается над болотом, куда ведет равнина. Опустошение становится все безотрадней.
Раздается голос, печальный, как похоронный звон:
- Сколько ни рассказывай потом, все равно не поверят. Не по злобе, не для того, чтобы поиздеваться над тобой, а так, просто не смогут поверить. Если будешь еще жив, и сможешь ввернуть словечко, и когда-нибудь скажешь: "Мы ходили на ночные работы, нас обстреливали, мы чуть не утонули в болоте", - тебе ответят: "А-а", - и, может быть, прибавят: "Небось невесело было, туго вам пришлось!" Вот и все. Никто не узнает. Знать будем мы одни.
- Нет, мы сами забудем, даже мы сами! - восклицает кто-то.
- Конечно, забудем... Мы, брат, уже забываем!
- Мы всего натерпелись!
- И каждая новая беда переполняет чашу. Мы не так устроены, чтобы все это вместить... Это растекается во все стороны: мы слишком малы.
- Конечно, все забывается! Не только все великие и неисчислимые беды за все время, что это продолжается: переходы, когда стонет земля, ноги стерты в кровь, кости болят, а ноша как будто растет до небес, или дни, когда от усталости забываешь даже свое имя, когда приходится топтаться на месте, когда приходится стоять, не двигаясь, и уже не держишься на ногах; непосильный труд, бесконечные ночи, когда борешься со сном, подстерегаешь врага (а он везде) или когда ложишься спать, а вместо подушки навоз и вши. Забываешь даже "чемоданы", пулеметы, мины, удушливые газы и контратаки. Мы видим все, как оно есть, только в те минуты, когда это происходит. Но все это забывается, уходит неизвестно как, неизвестно куда, и остаются только имена, только названия, как в военной сводке.
- Это правильно, - говорит человек в ошейнике, не поворачивая головы. - Когда я был в отпуску, я заметил, что забыл немало вещей из моей прежней жизни. Несколько своих писем я перечитал, как новую книгу. И все-таки, несмотря на это, я забыл, как мучился на войне. Люди и думают-то немного, но больше всего забывают. Они ведь машины забвения. Вот что такое люди.
- Значит, никто, даже мы сами этого не запомним! Значит, все это горе окончательно забудется!
Ко всем их страданиям прибавляется еще весть об этом неизбежном великом бедствии; люди сгибаются еще ниже и приникают к жалкому клочку земли, уцелевшему от потопа.
- Эх! Если б об этом помнили!
- Если бы об этом помнили, - говорит другой, - войны больше не было бы!
Третий, в заключение, произносит прекрасные слова:
- Да, если б об этом помнили, война не была б так бесполезна.
Но вдруг кто-то привстает, стряхивает с обеих рук грязь и, черный, как большая увязшая летучая мышь, глухо кричит:
- После этой войны больше не должно быть войн!
В этом углу нас, еще слабых, беспомощных, ветры хлещут и треплют так сильно, что поверхность почвы сотрясается, словно обломок среди потопа, и этот крик человека, как будто желающего улететь, вызывает такие же крики:
- После этой войны больше не должно быть войн!
Мрачные, гневные возгласы этих людей, прикованных к земле, вросших в землю, раздаются все громче и разносятся ветром:
- Довольно войн! Довольно войн!
- Да, довольно!
- Воевать глупо! Глупо! - бормочут они. - Да и что это все означает, все это, все это, о чем нельзя даже рассказать?
Они ворчат, рычат, как звери, столпившись на клочке земли, который хочет отнять у них стихия. На их лицах висят изодранные маски. Их возмущение так велико, что они задыхаются.
- Мы созданы, чтобы жить, а не околевать здесь!
- Люди созданы, чтобы быть мужьями, отцами, людьми, а не зверьми, которые друг друга ненавидят, травят, режут!
- И везде, везде - звери, дикие звери, загнанные, загубленные звери. Погляди, погляди!
...Я никогда не забуду этих беспредельных полей; грязная вода смыла все краски, срыла все выступы, смешала все очертания; изъеденные жидкой грязью, они расползаются и растекаются во все стороны, заливая искромсанные сооружения из кольев, проволок, балок, и среди этих мрачных стиксовых просторов сила рассудка, логики и простоты вдруг потрясла этих людей, как безумие.
Их явно волнует и мучает мысль: попробовать зажить настоящей жизнью на земле и стать счастливыми. Это не только право, но и обязанность, и конечная цель, и добродетель; ведь общественная жизнь создана только для того, чтобы облегчать каждому личную внутреннюю жизнь.
- Шить!
- Нам!.. Тебе!.. Мне!.. Всем!..
- Довольно войн! Эх!.. Воевать глупо!.. Больше того... Хуже...
Эта смутная мысль, этот отрывистый ропот порождает отклик... Кто-то поднимает голову, увенчанную грязью, и, открыв рот на самом уровне земли, произносит:
- Сражаются две армии: это кончает самоубийством единая великая армия!
* * *
- Да и кто мы такие вот уже два года? Несчастные, невообразимо несчастные люди, да еще и дикари, бандиты, мерзавцы, скоты!
- Хуже! - бормочет солдат, не находя другого выражения.
- Да, согласен!
В это скорбное утро люди, измученные усталостью, иссеченные дождем, потрясенные целой ночью грохота, уцелев от извержения вулкана и наводнения, начинают постигать, до какой степени война и физически и нравственно отвратительна; она не только насилует здравый смысл, опошляет великие идеи, толкает на всяческие преступления, но и развивает все дурные инстинкты: себялюбие доходит до жестокости, жестокость - до садизма, потребность наслаждаться граничит с безумием.
Они представляют себе все это, как недавно смутно представляли свои бедствия. Их гнев рвется наружу; они пробуют выразить его словами, стонут, орут. Они как бы силятся освободиться от заблуждения, от невежества, которое пятнает их душу, как грязь - тело, и хотят наконец узнать, за что эта кара.
- Так как же? - восклицает кто-то.
- Как же? - повторяет другой еще настойчивей.
Ветер потрясает затопленные пространства и человеческие глыбы, простертые или коленопреклоненные, неподвижные, словно камни и плиты.
- Войн больше не будет, когда не будет больше Германии! - кричит какой-то солдат.
- Нет, не так надо сказать! - восклицает другой. - Это еще не все.
Завывание ветра почти заглушает эти слова, тогда солдат поднимает голову и повторяет их.
- Германия и милитаризм одно и то же! - яростно отчеканивает другой. Это немцы захотели воевать и подготовили войну. Германия - это милитаризм.
- Милитаризм... - повторяет другой.
- А что это такое? - спрашивают его.
- Это... это значит быть разбойниками.
- Да. Ты вот говоришь, что сегодня милитаризм зовется Германией. А завтра как его будут звать?
- Не знаю, - отвечает кто-то низким голосом, звучащим, как голос пророка.
- Надо... Надо...
- Надо драться! - хрипло бурчит какая-то глыба, которая со времени нашего пробуждения каменела во всепожирающей грязи. - Надо! (Это тело грузно переворачивается.) Надо отдать все, что у нас есть, наши силы, нашу шкуру, наше сердце, всю нашу жизнь, все радости, что нам еще остались! За это каторжное существование надо еще хвататься обеими руками. Надо все вынести, даже несправедливость, которая царит кругом, и позор, и всю мерзость, надо целиком отдаться войне, чтобы победить! Но если надо принести такую жертву, - в отчаянии прибавляет человек-глыба, повернувшись еще раз, - то потому, что мы воюем ради всеобщего блага, а не ради какой-нибудь страны, против заблуждения, а не против какой-нибудь страны.
- Нет, - возражает первый собеседник, - надо убить войну во чреве всех стран!
- А все-таки, - бурчит стрелок, сидя на корточках, - некоторые воюют, и у них в голове другая мысль. Я видел молодых, им плевать было на идеи. Для них главное - национальный вопрос, а не что-нибудь другое; для них война - вопрос родины: каждый хочет возвеличить свою родину за счет других стран. Эти парни воевали, и хорошо воевали.