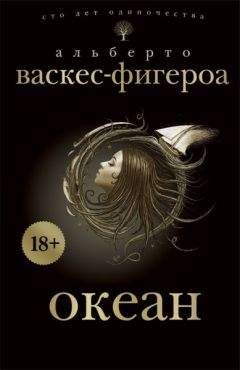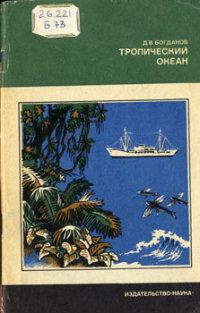Ознакомительная версия.
СТИХИ ИЗ СУДАКСКОЙ ТЕТРАДИ
В первый раз
мне подарила тебя
всемогущая жизнь.
И я любила тебя
до тех пор,
пока не стала забывать…
И тогда я вилась
более всемогущая –
смерть.
она мне подарила тебя
во второй раз,
теперь уже – навсегда…
Как в страшной сказке:
безжалостным мудрецом
спрятано на дне огромного кувшина
золотое зерно –
смысл моего существования.
А кувшин до краев
наполнен печалью…
И я пью,
пью,
торопясь и захлебываясь,
с ядовитой оскоминой на зубах,
от которой сводит скулы
и останавливается сердце…
Но печаль не убывает.
Потому что кувшин –
волшебный!
Он заколдован
великой насмешницей –
жизнью.
Пока он был жив,
я редко смотрела его фотографии.
Но так пристально,
как я теперь изучаю их,
я никогда не смотрела – на него.
Смотрю долго, часами…
И ужасаюсь тому,
Что влюбляюсь в него всё сильнее
и безнадёжнее…
Измученная
уставшая скрипка
человеческого тела –
спрятана навсегда
в чёрном
длинном футляре.
Что мне осталось после Вас?
Два деловых письма,
написанных Вашей рукой –
но двумя разными почерками…
желтеющая афиша…
пыльная пустыня Марьиной Рощи…
Нетающий иней воспоминаний
на душе…
Слишком много,
чтобы забыть Вас.
Слишком мало –
чтобы выжить…
. Говорю, пишу о твоей смерти –
. не как о финале.
. А как о неразгаданном
. случае из твоей ЖИЗНИ…
Пока перо соприкасается с бумагой –
ты жив…
Поэтому для меня
вопроса: писать или не писать –
не существует.
Неужели мне всего
двадцать два года?
Как феерически скоро
я прожила ту жизнь,
сладкое предчувствие которой
наполняло поэзией и смыслом
пустынные дни отрочества…
И теперь впереди –
целая вечность
на горькие воспоминания о ней…
У моего сердца
обломаны крылья надежды –
как будто сняты стрелки
с часов Будущего.
Механизм работает,
тикает,
но Время –
катастрофически стоит на месте…
Точно все эти годы
не было осени.
О, я отлично помню
огненный фейерверк листвы
на московских бульварах!…
Но теперь вижу
только опустевшие гнёзда
на голых ветвях…
Вот видишь:
ты называл меня пессимисткой.
Интересно,
чтоб ты сказал теперь,
если б мог знать,
как я бесконечно верую
в нашу скорую встречу…
Удивительно,
чем большее расстояние
было между нами –
тем меньше я его ощущала…
И вот наконец –
мы совсем вместе.
Огромное,
измотанное страстями,
мускулистое тело моря…
Тщетны его усилия
вырваться
из раз и навсегда отведённой ему
чаши…
Какая тоска,
какая упрямая безысходность
в этих
упруго набегающих
и вяло опадающих,
набегающих – и опадающих,
точно одержимых маниакальной идеей,
волнах…
Стою
у влажной черты прибоя
и думаю:
«Если тщетны даже такие усилия,
то что – не тщетно?…»
* * *
А потом я села на беленький теплоход и поплыла в Ялту…
И целый день, и вечер, и ночь бродила по её дивным узким улочкам, сотканным, как лёгкое, весёлое кружево, из шорохов, запахов, солнечных пятен и теней…
И там, в Ялте, случилось то, что казалось немыслимым, невозможным в ближайшее тысячелетие. Во мне что-то отозвалось на эти нежные, завораживающие, по-осеннему прозрачные звуки и запахи, на эту извечную игру света и теней: под подошвами башмаков, на старом тротуаре…
…Поздно вечером, бредя по тёмной пустынной улочке, я вышла – к Дереву. Оно сияло в октябрьской тьме белыми гроздьями цветов!… И я стояла у этого осеннего чуда, не в силах сдвинуться с места и продолжить свое блуждание. Мне казалось: то, зачем я приехала сюда, – я нашла.
А потом – был Севастополь с фосфорически синей, сияющей на солнце, как кристалл, Карантинной бухтой…
И – Феодосия, с меланхолично ползущими по тротуарам и мостовым виноградными лозами, и растрёпанным морем…
И в каждом из этих городов ноги сами приводили меня к цирку. Или к тому месту, где летом был цирк…
…Во дворе ялтинского цирка валялись обрывки афиш и стоял одинокий голубой вагончик, выгоревший на солнце до белизны. Сезон окончен, больше ничего не покажут…
В Феодосии, находившись до изнеможения по её меланхоличным, с прохладным платановым шелестом над головой улочкам, я обнаружила себя стоящей в тени старого сквера, неподалеку от базара. И поняла: здесь! Здесь летом был цирк. Пробегающий мимо загорелый и тощий феодосийский мальчишка подтвердил это.
А в Севастополе… Боже мой, неужели я прожила в Севастополе всего один день? День как жизнь. И день в Ялте, и день в Феодосии… Каждый из этих дней был восхождением. Прорывом к жизни. К радости. Без которой жизнь мертва.
Там, в Севастополе…
В бухте Карантинной,
в тёплой паутине
улиц полусонных
славные места.
В переулке малом
розовые мальвы,
гаснущие мальвы,
жухлая листва…
И сейчас, спустя столько лет, я помню запах этих мальв… Помню слепящую на солнце белизну глухих белёных татарских стен. Помню ленивый лай маленькой лохматой собачонки мне вслед – и больше ни голоса, ни звука…
Помню, как, надышавшись тишиной и покоем улочек Карантинной бухты, я оказалась на пустыре. На нём не было ни кустика, ни деревца. А трава… Трава была не просто пожухлая, она была основательно вытоптана сотнями ног. Но вытоптана не равномерно и не беспорядочно, а как бы по какой-то системе, с неким загадочным смыслом…
И вдруг меня озарило: я – в цирке! Здесь летом было шапито.
Вот это – пыльная, закиданная окурками площадь перед входом. А это – кулисы, здесь видны прямоугольники не вытоптанной травы под стоящими здесь ещё недавно вагончиками… А это – вылощенная до блеска дорожка вокруг манежа.
Я прошла по ней полный круг и, перешагнув невидимый барьер, – ступила на манеж… Он был мягкий, тёмно-рыжий: опилки, смешанные с песком и пылью…
Я опустилась на этот манеж, в этом осеннем, облетевшем, безлюдном шапито, и долго, долго сидела там, не в силах подняться и уйти. Вся моя жизнь со всем несбывшимся была здесь… То, что прошло, – не желало становиться прошлым. Да, шапито снялось и уехало. Но манеж, пропитанный потом и слезами, – остался.
И никого не было вокруг. И только солнце, застывшее в выгоревшем зените, жарко и слепо светило в меня, как сумасшедший софит, который забыли выключить…
июль 1989, июль 2005 – май 2006
Ознакомительная версия.