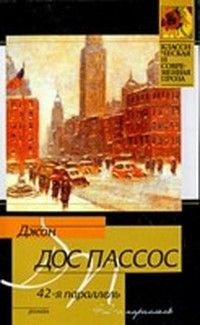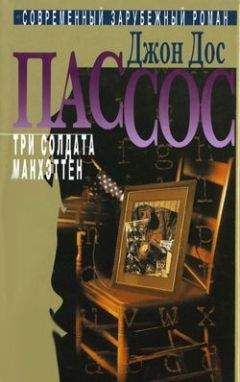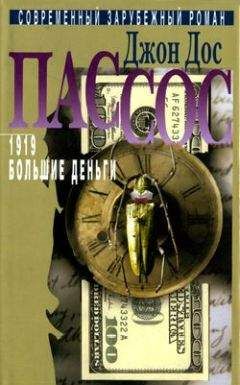- Может быть, именно в эту минуту меня выслеживают ее сыщики, - и вышел в крайне подавленном состоянии.
После его ухода Элинор долго ходила взад и вперед перед венецианским зеркалом в простенке. Она не знала, что ей делать. Ателье едва окупалось. Ей предстояли взносы по дому в Сеттон-парке. За квартиру было не плачено уже два месяца, а тут еще меховое манто. Она так рассчитывала на эту тысячу долларов с акций Венесуэльской нефти, которую обещал ей Джи Даблью, если операция удастся. Должно быть, с ними было неладно, иначе он сам заговорил бы о них. Элинор легла в постель, но не могла заснуть. Она чувствовала себя несчастной и одинокой. Неужели снова возвращаться к поденщине магазинной службы? Она уже теряла свою привлекательность и друзей и теперь, если ей придется потерять и Джи Даблью, это будет просто ужасно. Она вспомнила свою негритянку Августину и все ее несчастливые любовные истории, которыми та постоянно с ней делилась, и она завидовала Августине. Может быть, она с самого начала была неправа, добиваясь чего-то непогрешимого и прекрасного. Она не плакала, но лежала вею ночь с широко открытыми глазами и до боли вглядывалась в лепной карниз вдоль потолка, который смутно выделялся в слабом свете, проникавшем с улицы сквозь лиловатые тюлевые занавески.
Через несколько дней, когда она осматривала старинные испанские кресла, которые ей старался продать старьевщик, пришла телеграмма:
"Неприятные новости нужно вас повидать по телефону неудобно будьте пять часов отель "Принц Джордж".
Подписи не было. Она сказала старьевщику оставить кресла и, когда он ушел, долго простояла без движения, пристально вглядываясь в красовавшиеся у нее на столе лиловые крокусы с желтыми тычинками. Она подумала, не съездить ли ей самой в Грейт-Нэк и переговорить лично с Гертрудой Мурхауз. Она позвала мисс Ли, которая возилась с портьерами в другой комнате, попросила заменить ее в ателье и обещала позвонить среди дня.
Она взяла такси и поехала на Пенсильванский вокзал. Был не по времени жаркий весенний день. Люди шли по улицам в расстегнутых пальто. Небо было нежно-палевого цвета с легкими шелковистыми волокнами хрупких облаков. В запах меха и шерсти, и отработанного бензина, и накутанных тел откуда-то неожиданно врывался запах березовой коры. Элинор сидела, напряженно выпрямившись, на подушках такси, и ее острые ногти глубоко впивались в серую кожу перчаток на ее ладонях. Она не выносила таких предательских дней, когда зима прикидывается весной. В такие дни отчетливее проступали морщины на ее лице и все, казалось, рушилось вокруг нее, словно почва уходила из-под ног. Она поедет к Гертруде Мурхауз и поговорит с ней, как женщина с женщиной. Скандал все погубит. Только бы удалось поговорить с ней; она сумеет убедить, что между нею и Джи Даблью ровно ничего не было. Скандальный развод все погубит. Она потеряет клиентуру, банкротство станет неизбежным, и надо будет возвращаться в Пульман и жить у дяди с теткой.
Она расплатилась с шофером и пошла на поезд в Лонг-Айленд. Колени у нее дрожали и, проталкиваясь сквозь толпу к справочному окошку, она чувствовала смертельную усталость. Нет, до Грейт-Нэк не было поездов раньше 2:13. Она долго стояла в очереди за билетом. Кто-то наступил ей на ногу. Очередь убийственно медленно подвигалась к окошечку. Когда она подошла к окну, она не сразу вспомнила, до какой станции ей брать билет. В окошечко на нее смотрели ядовитые глаза-пуговки кассира. На лбу у него был зеленый козырек, а красные губы резко выделялись на бледном лице. В очереди сзади нее волновались. Мужчина в клетчатом пальто и с тяжелым портфелем в руках попытался оттеснить ее от окна.
- Грейт-Нэк, обратный.
Как только она купила билет, ей пришло в голову, что она не успеет вернуться к пяти часам. Она положила билет в серую шелковую, вышитую черным бисером сумочку. Она подумала, уж не покончить ли ей с собой. Сесть в метро и до Нижнего города, потом лифтом на самую верхушку Вулворт-билдинг, а там вниз головой.
Вместо этого она вышла к остановке такси. Рыжеватый солнечный свет пробивался сквозь серую колоннаду, голубая дымка отработанных газов, свиваясь, поднималась вверх, и кольца ее отливали муаром. Она взяла такси и велела шоферу проехать по всему Центральному парку. Кое-где уже краснели свежие побеги и поблескивали длинные почки буков, но трава была по-зимнему бурая, и на водостоках еще лежал грязный снег. С прудов тянуло пронизывающим, резким ветром. Шофер всю дорогу заговаривал с ней. Ей не слышно было, что он говорит, она скоро устала отвечать наугад и велела высадить ее у музея Метрополитен. Когда она расплачивалась, мимо них пробегал газетчик, крича: экстренный выпуск. Элинор купила газету, купил газету и шофер. Отходя от машины, она слышала, как он воскликнул: "Вот черт...", но поспешно взбежала по ступенькам из страха, что он опять заговорит с ней. Очутившись в спокойном серебристом полусвете музея, она развернула газету. Бумага еще кисло пахла свежей печатью; краска была еще совсем липкая и пачкала ей перчатки.
ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ КАК НАМ СООБЩАЮТ ИЗ ВАШИНГТОНА ВОПРОС ЧАСОВ
Германская нота признана совершенно неудовлетворительной.
Она бросила газету на скамью и пошла смотреть работы Родена. Обойдя их, она прошла в китайский зал. Садясь в автобус - она решительно разоряется на такси, - чтобы ехать в отель "Принц Джордж", она почувствовала необычайный подъем. Всю дорогу она почему-то вспоминала "Бронзовый век" (*147). Когда она разглядела Джи Даблью в пыльном розоватом свете вестибюля, она пошла прямо к нему твердой, упругой походкой. Челюсти его были плотно стиснуты, и голубые глаза горели. Он казался моложе, чем при последней встрече.
- Ну наконец-то разразилось, - сказал он, - я только что телеграфировал в Вашингтон, отдавая себя в полное распоряжение правительства. Пусть они теперь попробуют бастовать.
- Как все это ужасно и как замечательно, - сказала Элинор. - Я вся дрожу.
Они прошли к маленькому столику в уголке за тяжелой драпировкой и заказали чаю. Едва они сели, как оркестр заиграл "Звездное знамя" (*148), и пришлось снова встать. Весь отель был похож на разворошенный муравейник. Все бегали с последними выпусками экстренных газет, смеялись и громко переговаривались. Совершенно незнакомые люди просили друг у друга газеты, толковали о войне, прикуривали друг у друга.
- Мне пришло в голову, Джи Даблью, - говорила Элинор, держа в тонких пальцах ванильный сухарик, - что, если я пойду и поговорю с вашей женой, как женщина с женщиной, она лучше поймет создавшееся положение. Когда я обставляла дом, она была очень мила со мной, и мы с нею прекрасно ладили.
- Я предложил свои услуги Вашингтону, - сказал Джи Даблью. - В конторе уже, может быть, получена ответная телеграмма. Я уверен, что Гертруда поймет, что это просто ее долг.
- Я хочу ехать, Джи Даблью, - сказала Элинор. - Я чувствую, что должна ехать.
- Куда?
- Во Францию.
- Не принимайте поспешных решений, Элинор.
- Нет, я чувствую, что я должна... Из меня выйдет хорошая сестра милосердия... И я ничего не боюсь, вы отлично это знаете, Джи Даблью.
Оркестр снова заиграл "Звездное знамя"; Элинор подхватила припев слабым, дрожащим, визгливым голоском. Они были слишком взволнованны, чтобы долго оставаться на месте, и, взяв такси, отправились в контору Джи Даблью. Контора была вся взбудоражена... Мисс Уильямс распорядилась вывесить в среднее окно флагшток, и как раз в эту минуту подвешивали флаг. Элинор подошла к ней, они обменялись крепким рукопожатием. Холодный ветер так и гулял по комнате, шелестя бумагами на конторках, повсюду летали листки и копирки, но никто не обращал на это внимания. По Пятой авеню проходил оркестр, играя "Ура, ура, все под знамена". Окна контор по всей улице были ярко освещены. На ветру флаги полоскались и шлепали по древкам, конторщики и стенографистки высовывались из окон и возбужденно перекликались, роняя из окон бумаги, которые крутились и взвивались в порывах холодного, пронизывающего ветра.
- Это Седьмой полк, - сказал кто-то, и все захлопали и завопили. Под окнами оглушительно ревел оркестр. Слышен был мерный топот солдат. Все автомобили запруженного уличного потока приветствовали их гудками и сиренами. С крыш двухъярусных автобусов махали маленькими флажками. Мисс Уильямс нагнулась к Элинор и поцеловала ее в щеку. Джи Даблью стоял рядом и с горделивой улыбкой смотрел поверх их голов на улицу.
Когда прошел оркестр и движение возобновилось, они закрыли окно, и мисс Уильямс стала собирать и приводить в порядок разлетевшиеся бумаги. Джи Даблью получил телеграмму из Вашингтона, его предложение было принято, его включили в состав Общественного информационного комитета, который собирал сам мистер Вильсон, и он сказал, что наутро выезжает. Он позвонил в Грейт-Нэк и спросил Гертруду, может ли он приехать к обеду и привезти с собой одного из своих друзей. Гертруда изъяви-ла согласие и выразила надежду, что в состоянии будет встать и сойти к ним в столовую. Она тоже чувствовала подъем, но мысль об ужасах и бедствиях грядущей войны вызывала у нее отчаянные боли в затылке.