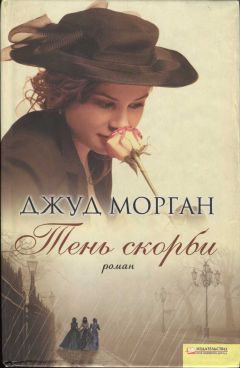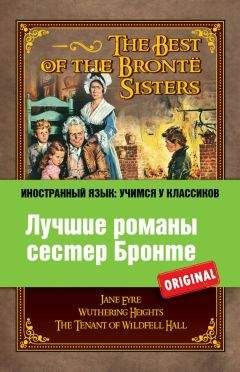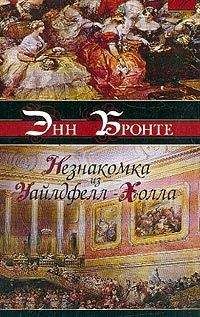Сравните: третье крыло, которое он пристроил к школе, длинная крытая галерея, где девочки могут делать зарядку, когда погода слишком сурова. Тяжело скользя, мистер Уилсон продвигается по галерее к аудитории для занятий. Человек защищен, он почти в закрытом помещении. Но стоит выступить из-под веранды, и это ощущение немедленно испаряется: вы оказались под беспощадным небом, обиталищем града и молний. Ваша безопасность вовсе не безопасность. Преподобный Кэрус Уилсон, такой неповоротливый на вид, всегда чувствует в сердце трепет перед опасностью.
Что касается пространства в середине — этого тщетного, пустого, расточительного, опасного пространства, — он намерен превратить его в садовый участок, который будут культивировать девочки. Девочки в саду. Он представляет, как они благопристойно трудятся, именно благопристойно, а не красиво: в красоте кроется опасность. Какая яркая картина! Мистер Уилсон сожалеет, что допустил ее в сознание, но продолжает гнуть свою линию — опять же, он знает, о чем говорит. Его необычайные тело и разум движутся дальше, в аудиторию.
Часто случается, когда он заходит в класс, то обращается с наставлениями или дает урок катехизиса, но сегодня мистер Уилсон жестом показывает учительнице продолжать; он ходит по комнате, вполуха прислушиваясь к ровному гулу голосов, читающих Библию. Это успокаивает его хотя бы в том смысле, что приводит в мягкое возбуждение, напоминает о вездесущем долге предупреждать, о грехе, о треске льда. Он изучает склоненные головы девочек, которых на первый взгляд можно принять за мальчиков, одетых в передники, потому что их волосы, по его настоянию, коротко острижены. Но только на первый взгляд: к несчастью для девочек, они все равно выглядят как девочки. Мистер Уилсон тщательно изучает одежду учениц — простое нанковое платье с короткими рукавами — на предмет отличий от формы, ибо дьявол легко может ввергнуть их в соблазн пришить оборку или кружевную кайму. Он замечает на столе учительницы экземпляр собственного ежемесячного издания «Друг детей», — но с одобрением, а не с гордостью, поскольку просто не может никому другому доверить опасную задачу предоставления этим уязвимым умам пищи для чтения. Он обследует хозяйственный шкафчик и удовлетворен, видя, что его указания по поводу мелков выполняются и что даже самые мелкие остатки не выбрасывают, а складывают в коробку. Хотя учениц пока немного, и все они довольно взрослые, с Божьей помощью он надеется со временем заполнить все шестьдесят мест, а среди них могут оказаться совсем малютки, для крошечных пальчиков которых идеально подойдут списанные мелки. Здесь всему есть причина.
Журнал приводит мистера Уилсона в замешательство. Шестнадцать поступивших, а на уроке присутствует только пятнадцать учениц. Мэри Честер, говорит ему учительница, заболела, и директриса позволила той остаться в постели. За вялым кивком мистера Уилсона кроется острое смятение чувств. Больна? Насколько больна? Если девочка серьезно заболела, необходима немедленная духовная подготовка. Если болезнь несерьезна, ученице может грозить еще более страшная опасность. Мрачное воображение рисует ее праздно лежащей в кровати: течение мыслей ничем не ограничено, руки и ноги не находят себе места. Лучше подняться и отдавать силы учебе, невзирая на недуг, чем подвергнуться такому искушению. В конечном счете лучше позволить болезни свести себя в могилу и оказаться недосягаемой для греха. Еще одна проблема, которую нужно обсудить с директрисой перед уходом.
Проблем очень много, ибо школа для дочерей священников — серьезное начинание. Мистер Уилсон сам планировал, рассчитывал и ходатайствовал о пожертвованиях, и список меценатов безукоризнен: он включает освободителя рабов Уильяма Уилберфорса, чья благотворительность двадцать лет назад простерлась до назначения ежегодной стипендии в десять фунтов бедному молодому ирландцу по имени Патрик Бронте. Другой бы на месте мистера Уилсона мог посчитать, что его цель достигнута — основана школа, в которой дочери небогатых священников имеют возможность за скромную плату получить образование, соответствующее их месту в обществе. Но нет, преподобный Кэрус Уилсон не станет почивать на лаврах: в самой мысли об этом кроется опасность. И он кружит над колыбелью своей малютки, переживает, чтобы новорожденная росла правильно.
Осознав существование бурлящего ада за верандой, он принял на себя миссию: дети, в особенности девочки. Скольких смертных грехов нужно избежать; а дети, в первую очередь девочки, едва ли могут вступить в мир, не испачкавшись в нем, как в грязи. Спасти их — нелегкая задача, ибо все их естественные, то есть дьявольские, наклонности подстрекают малышек к мятежу. Да, он знает, что они досадуют на остриженные волосы и платья из простой ткани. Но дальновидное воображение рисует перед ним альтернативу. Преподобный Кэрус Уилсон может представить ад во всех деталях, где у девочек длинные-длинные волосы, а одежды нет вовсе.
Не расстояние страшило ее.
— Сорок пять миль — по правде говоря, скорее сорок восемь — это, конечно, далековато, я понимаю, — сказал папа. — Но на самом деле это не такое большое расстояние… и дело в том, что я не вижу более подходящей и умеренной по стоимости школы, расположенной ближе к Хоуорту.
Сорок пять миль или тысяча — не важно; важно только то, что она покинет дом. Вот это здание, этот мир, укрытый за четырьмя стенами.
Даже Хоуорт ничего не значит. Шарлотта не испытывала к городку ничего, кроме легкого отвращения к шуму и вони. Когда девочке доводилось проходить через него, скажем, по дороге в Китли, где она брала в библиотеке книги на дом, она иногда заглядывала в чужие дома. Часто из-за крутых спусков и узких тротуаров приходилось почти вжиматься в окна, чтобы увидеть необъяснимо странное кресло, стоящее всего в нескольких дюймах от тебя, кухонную плиту с кипящей по ту сторону кастрюлей и чей-то незнакомый взгляд. Секундное замешательство — и она уже смотрит в сторону. Подлог. Настоящий дом один.
Тетушка сказала:
— Конечно, ты многому научилась здесь, с отцом, но школа требует большей дисциплинированности. Это значит, что нужно быть аккуратной, скрупулезной. Но не бойся, ты быстро схватываешь и подготовлена лучше большинства девочек твоего возраста.
Как будто учеба имеет к этому какое-то отношение! Шарлотта любит учиться. На самом деле странной казалась мысль, что нужно куда-то ехать, чтобы получить образование, как прививку от оспы, и больше о нем не вспоминать. Ей хотелось учиться постоянно.
Но только здесь, здесь.
— Повезло тебе. Это приключение, — сказал Брэнуэлл. — Жалко, что в школу не еду я.
— Да уж, — ответила Шарлотта, — тогда бы ты понял, о чем говоришь.
— Эмили не станет надувать губы, если ей тоже придется ехать, — заметил брат. — Правда, Эмили? Ты не будешь трусить?
Часто, когда у Эмили что-то спрашивали, она склоняла голову набок, будто ей в ухо кто-то шептал совсем другой вопрос. Бросив взгляд на брата, она спросила:
— Почему ты так нехорошо ведешь себя с Шарлоттой?
— Чтобы она разозлилась. Когда разозлишься, тебе уже не так грустно. — Брэнуэлл исполнил витиеватый жест фокусника. — Уж я-то знаю.
Но ей не было грустно, как в тот день, когда они нашли мертвого ягненка на пустошах, а рядом стояла его мама-овца, просто стояла на небольшом расстоянии. Скорее это было предчувствие грусти или… О, это был мучительный ужас! Огромный, как мир, горячий, как солнце.
Всего один раз, на верещатниках, Шарлотта решилась на то, что так любила делать Эмили, — сбежала по крутому склону холма, слишком крутому склону, настолько крутому, что в какой-то момент она почувствовала, что уже не в силах остановиться и что собственное тело и ее жизнь выходят из-под контроля. Это было ужасно, и она сказала себе, чувствуя, как кровь стучит в ушах: «Я никогда больше этого не сделаю».
А теперь приходилось. Склон отнял у нее право выбора, да и вершины холма, быть может, никогда не существовало.
Каждый день ее аккуратно, незаметно тошнило. Ей удавалось выбирать место и время, чтобы папа не узнал. Эти маленькие проявления болезни расстраивали его. Кроме того, Шарлотте не хотелось обременять его своими страданиями. Он действовал, исходя из искренней заботы о ее благе, и ей уже все объяснили.
Эмили сказала:
— Если тебе действительно это не нравится, почему просто не убежать?
— Ах, Эмили, не будь ребенком. — Что ж, если бы на ней лежала ответственность большой девочки, она могла бы даже насладиться плюсами этого статуса. — Ты не понимаешь.
Но Эмили просто рассмеялась, и все тут. На ее смех нечем ответить: точно книгу, которую ты читал, внезапно захлопнули у тебя перед носом. Шарлотта излила долю своего несчастья и на Энн. Было что-то такое в ее положении младшего ребенка семьи, беспомощной четырехлетней малютки, хотя на самом деле это лишь усугубляло положение: способная размышлять, принимать участие в жизни и радоваться ее прелестям, она все равно оставалась малюткой. Это вызывало презрение, то есть зависть. Несколько раз короткими резкими замечаниями и едкими ответами она доводила Энн до слез. Но не истерических: Энн плакала застенчиво, будто хотела, чтобы ее попросили перестать.