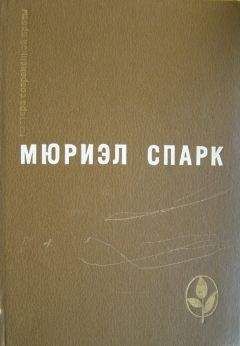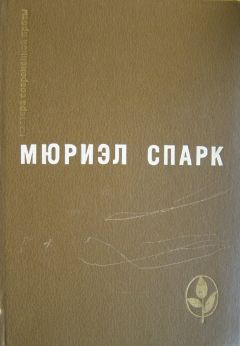— Ваша комната так напоминает Париж, — заметила она. — Художники, которых я знала… — Она задумалась. — Художники и писатели, они, конечно, преуспели. И вы тоже…
Я поспешила ее заверить, что это маловероятно. Мне было как-то боязно связывать себя и успех, тем самым как бы умаляя достоинства моих уже порядком поднакопившихся сочинений, из коих всего лишь восемь стихотворений увидели свет в тонких малотиражных журналах.
Я выбрала одно неопубликованное стихотворение, которое высоко ценила, несмотря на то что его заворачивали из восьми редакций и оно на протяжении года возвращалось с неизменной утренней почтой к родным пенатам в конверте, который я посылала вместе с ним, снабдив маркой и обратным адресом. Может быть, выпавший этому стихотворению жребий парии и заставил меня его полюбить. Старая дама теребила шиншиллу, вцепившись длинными красными ногтями в серебристо-серый мех. Стихотворение называлось «Metamorphosis»[11].
Как эта боль актиниям знакома,
Что, в страхе отклониться от природы,
Стремятся все ж — упрямо, своенравно —
Дышать иным дыханьем, превращаясь
В тварь из цветка, и пытка длится вечно.
Когда я читала приведенную первую строфу, явился мой любовник Лесли, открыв дверь полученным от меня ключом. Он был высок и сутуловат. Свежий цвет молодого лица оттеняла белокурая прядь, которая свисала ему на глаза. Я им гордилась.
— Как поживаете? — спросила Эдвина, когда я их познакомила. Она еще раньше мне объяснила, что раз у нее плохая память на лица и имена, то она со всеми здоровается одинаковым «Как поживаете?» — на тот случай, если встречалась раньше.
— Благодарю, прекрасно, — сказал Лесли, забывая ответить ей тем же. Он частенько выводил меня из себя неучтивостью в мелочах. Весь в своих многочисленных личных проблемах, он был слишком большой эгоист, чтобы отвлечься от них сейчас, когда я дарила ему это великолепное привидение, Эдвину, — древний, морщинистый, накрашенный призрак в роскошных мехах.
Пока он стягивал пальто и усаживался на диване-кровати, Эдвина любезно осведомилась:
— Какова ваша профессия, сэр?
— Я критик, — сказал Лесли.
И вдруг Лесли утратил для меня всякое очарование. Последнее время такое находило на меня все чаще и чаще. И дело кончалось ссорой. Лесли сидел как чурбан, позволяя обращаться к себе с вопросами, но не в силах забыть о собственной персоне с ее тревогами, и его молодое лицо и хорошее здоровье подчеркивали старческую проницательность Эдвины, ее алые ногти, блестящий, жадный до жизни взгляд. В кармане его пальто я углядела горлышко бутылки, которую он, видимо, намеревался распить вместе со мной. Я ее вытащила — контрабандное алжирское вино.
— Музыкальный критик? — спросила Эдвина.
— Нет, литературный. — Он повернулся ко мне: — Кстати, ты тут читала стихотворение — что там за строчка «Дышать иным дыханьем»?
Я отложила бутылку и взяла стихотворение.
— Они думают, у меня не хватает, — заявила Эдвина. — Но у меня хватает. Ха!
— Очень неудачная строчка, — сказал Лесли.
Я прочитала вслух «Дышать иным дыханьем, превращаясь…» Мне показалось, что Лесли прав, но я спросила:
— Чем она тебе не понравилась?
— В этой бутылке есть что-нибудь? — сказала Эдвина.
Лесли ответил:
— Слишком бледно. И повтор режет слух.
Я сказала:
— Сухое алжирское, Эдвина. Я бы с удовольствием вам предложила, да боюсь, вам от него плохо будет.
— Дай-ка открою, — сказал Лесли, по-хозяйски извлекая штопор. К моим сочинениям у него было двойственное отношение: ему часто нравилось, чтó я пишу, но не нравились мои планы публиковать написанное. Из-за этого я отвергала большинство его критических замечаний. Что до литературного критика, то у него были основания таковым называться, поскольку он рецензировал книги для еженедельника «Тайм энд тайд» и для ряда тонких журналов, хотя на жизнь зарабатывал службой у юриста.
Он откупорил бутылку под уверения Эдвины, что глоточек алжирского ей вполне по силам.
В дверь постучали. Это оказались гневливый привратник и мой хозяин мистер Алекзандер.
— Звонят по городскому к мистеру Алекзандеру, жутко неудобно, — сообщил привратник.
Сам мистер Алекзандер добавил:
— Коммутатор вышел из строя. На сей раз я уж позволю вам поговорить от меня из гостиной — ваш знакомый утверждает, что вы ему срочно нужны, но попрошу вас позаботиться, чтобы ваши знакомые впредь не нарушали мой покой.
Он продолжал в том же духе, пока я шла за ним в гостиную, где его жена в диадеме из своих черных волос сидела, вытянув длинные ноги.
Звонил сэр Квентин.
— Матушки нет дома, — начал он, — и мы…
— Она у меня. Я ее привезу.
— Ох, как же мы изволновались, дорогая моя мисс Тэлбот. С вами было очень трудно связаться. Миссис Тимс…
— Пожалуйста, не звоните больше по этому номеру, — сказала я. — Хозяева возражают.
Я повесила трубку и принялась извиняться перед Алекзандерами:
— Понимаете, пожилая дама…
Они взирали на меня с ледяной неприязнью, будто самый звук моего голоса был для них оскорбителен. Я быстро вернулась к себе и застала Лесли с Эдвиной весело выпивающими на пару. На Лесли начало действовать обаяние Эдвины. Он читал ей мое стихотворение, не оставляя от него камня на камне.
Он согласился отвезти Эдвину домой, вышел кому-то там позвонить и поймать такси; машину он подогнал к самым дверям.
— Потом поеду прямиком к себе, — сообщил он, поддерживая ковыляющую Эдвину. — Мне нужно лечь пораньше.
— Мне тоже, — сказала я. — Нужно об очень многом подумать.
— Он вас ревнует, Флёр, — сказала Эдвина, но я не поняла, что она имеет в виду.
Когда ее усаживали в такси, она спросила:
— У вас в комнате настоящий Дега?
— Художник его школы, — сказала я.
Лесли рассмеялся от всей души. Я помахала им на прощанье и вернулась к себе. Помнится, я поглядела на эту картину — экипаж, а в нем две женщины с красными помпонами на твердых коричневых шляпках — и еще подумала: как ее можно было принять за Дега?! Картина была английская, подписанная «Дж. Хэйлар. 1863».
Я начала прибирать и готовиться ко сну, в целом глубоко довольная прожитым днем, когда на улице у меня под окном раздался женский голос, распевающий «За счастье прежних дней». Это был условный сигнал; им пользовались лишь немногие из моих друзей, давая знать, чтобы я впустила их в позднее время, не навлекая на себя нареканий со стороны неумолимой администрации и обслуживающего персонала. Открыв окно и выглянув на улицу, я с изумлением различила при свете фонаря массивную фигуру Дотти, жены Лесли; время шло к полуночи, и до этого она заявлялась сюда так поздно лишь тогда, когда рассчитывала застать у меня своего мужа. Я решила, что произошло нечто непредвиденное.
— Что случилось, Дотти? — сказала я. — Лесли здесь нет.
— Знаю. Он позвонил, что подбросит до дома твою знакомую, а затем отправится в Сохо на какое-то литературное сборище, от которого не смог отвертеться. Флёр, нам надо поговорить.
Я услышала, как у меня над головой отворили окно, но смотреть не стала, — и без того было ясно, что это кто-то из Алекзандеров и сию минуту подымется шум. Я только сказала:
— Сейчас открою.
Окно наверху захлопнулось. Я сошла вниз и впустила Дотти. Ее симпатичное лицо было укутано в шарфики, благоухавшие «Английской Розой».
Я налила ей алжирского. Она расплакалась.
— Лесли, — сказала она, — использует нас обеих как ширму. У него есть кое-кто еще.
— Кто именно? — сказала я.
— Пока не знаю. Какой-то молодой поэт, мужчина, это известно наверняка, — ответила Дотти. — «Любовь, которая себя назвать не смеет».
— С мальчишкой связался, — сказала я в лоб, тем самым усугубив страдания Дотти.
— Тебя это не удивляет? — спросила она.
— Не очень.
Мне было любопытно, как он умудряется на всех нас выкраивать время.
— Меня просто ошеломило, — сказала Дотти, — и уязвило. Ранило в самое сердце. Ты не представляешь, как я страдаю. Возьму обет — буду девять дней бить поклоны нашей пресвятой Богородице Фатимской. Ох, Флёр, когда я узнала, что ты его любовница, я и то не страдала так, потому что…
Я ее оборвала, придравшись к словечку «любовница», которое, как я подчеркнула, подразумевает нечто совершенно отличное от моей свободной связи с бедняжкой Лесли.
— Почему ты сказала «с бедняжкой Лесли», почему он «бедняжка»?
— Потому что не может разобраться в собственной жизни, никак с ней не сладит, и это яснее ясного.
— Он называет тебя своей любовницей, не я.
— Он преувеличивает. Бедняжка Лесли.
— Что же мне делать? — вопросила она.
— Можешь от него уйти. Можешь остаться.
— Как быть, ума не приложу. Я так страдаю. Я ведь всего-навсего человек.
Я знала, что рано или поздно услышу про то, что она всего-навсего человек. И предчувствовала, что вскоре она примется обвинять меня в бесчеловечности. Внезапно меня озарило.