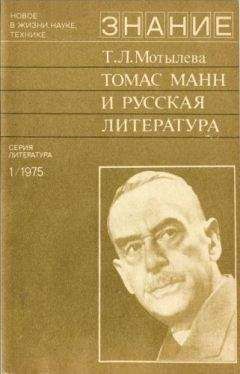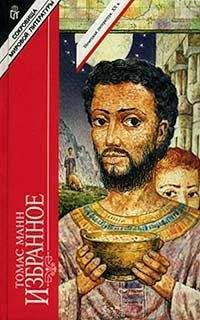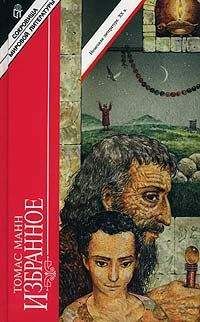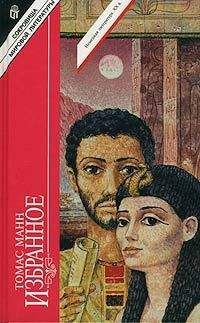Деревья тут состоят из немногих родственных пород. Ольха одного семейства с березой, тополь не очень-то в конце концов отличается от ивы!
А все вместе, пожалуй, приближаются к типическим очертаниям этой последней; лесоводам известно, как приспосабливаются деревья к характеру окружающей местности, не хуже женщин склонны они подражать гос-подствующим линиям и формам. Здесь же господствуют причудливо изломанные формы ивы, верной и постоянной спутницы всяких проточных и стоячих вод. Будто ведьма из сказки, стоит она, протянув вперед руки со скрюченными пальцами, из которых в разные стороны торчат метлы ветвей. Ей-то, должно быть, и пытаются подражать все остальные. Серебристый тополь изгибается точь-в-точь как она, а от тополя, в свою очередь, не сразу отличишь березу, которая, соблазнившись местной модой, принимает порой самые диковинные позы, - хотя это отнюдь не значит, что здесь не встречаются, и в достаточном количестве, очень статные, а при выгодном вечернем освещении попросту обворожительные особи этого милого дерева.
Здешние края знавали его и серебряным стерженьком, увенчанным редкими, торчащими врозь листиками; и миловидной стройной красавицей с нарядным, белым, как мел, стволом, кокетливо и мечтательно распустившей по плечам зеленые кудри; и старухой поистине слонообразных размеров, со стволом в три обхвата и грубой черной потрескавшейся корой, только вверху еще сохранившей признаки былой белизны...
Почва в этих местах имеет очень мало общего с обычной лесной почвой.
Это галька, глина, а местами чистый песок, так что, казалось бы, ничего на ней расти не может. Однако, в пределах своих возможностей, она необычайно плодородна. Здесь растет высокая трава, напоминающая сухую остролистую траву, что встречается в дюнах, зимой она устилает землю, словно примятое сено, а иногда прямо переходит в тростник; в других местах эта трава, напротив, становится мягкой, густой и пышной и вперемежку с болиголовом, крапивой, мать-и-мачехой, всевозможными ползучими растениями, огромным чертополохом и гибкими молодыми побегами деревьев служит хорошим прибежищем фазанам и другим птицам, любящим ютиться среди шишковатых корней. Из этой зеленой гущины всюду тянутся вверх и обвиваются спиралью вокруг деревьев широколистые гирлянды дикого винограда и хмеля, даже зимой продолжают они льнуть к стволам своими жесткими плетями, похожими на тугие веревки.
Нет, это не лес, не парк, а настоящий волшебный сад. Да, волшебный сад, хотя речь идет о природе скудной, убогой и даже в какой-то мере искалеченной, описание которой исчерпывается десятком простейших ботанических названий. Местность то и дело волнообразно подымается и опускается, что и придает такую завершенность, такую глубину и замкнутость пейзажу. Если бы лес здесь тянулся по сторонам на много миль или хотя бы даже вширь на такое же расстояние, как в длину, а не насчитывал какую-то сотню шагов от середины до края, и тогда ощущение уединенности, глуши и оторванности от мира не могло бы быть большим. Только доносящийся с востока мерный шум напоминает о дружеской близости реки, не видной отсюда... Тут есть лощины, сплошь заросшие бузиной, бирючиной, жасмином и черемухой, от аромата которых в паркие июньские дни тяжело дышать. А есть овраги - самые обыкновенные выемки для добычи гравия, - где по склонам и на дне ничего не растет, кроме сухого шалфея да нескольких прутиков ивы.
Хотя я живу здесь несколько лет и каждый день бываю в лесу, все это до сих пор кажетвя мне необыкновенным и удивительным. Листва ясеней, похожая на гигантские папоротники, вьющиеся растения, тростник, эта сырость и сушь, эта убогая чащоба неизменно волнуют мое воображение; временами мне кажется, будто я перенесся в другую геологическую эру или в подводный мир, кажется, будто я бреду по морскому дну, что, впрочем, не так уж далеко от истины, потому что тут и в самом-деле когда-то была вода, - во всяком случае, в тех низинах, которые теперь, в виде прямоугольных полян с посеянными самой природой дикими питомниками ясеня, служат пастбищем овцам; одна такая поляна находится возле самого нашего дома.
Чаща вдоль и поперек изрезана тропинками: иногда это только вьющаяся среди деревьев ленточка примятой травы, иногда дорожка, конечно, не проложенная, а просто протоптанная, хотя непонятно, кто и когда протоптал ее, потому что мы с Баушаном обычно никого в лесу не встречаем, а уж если, в биде исключения, нам кто-нибудь вдруг попадется навстречу, спутник мой остановится, недоуменно поглядит на чужака и глухо тявкнет, что довольно точно выражает и мое отношение к событию. Даже летом, в погожие воскресные дни, когда к нам на лоно природы из города валят толпы людей (здесь как-никак на несколько градусов прохладнее), по этим стежкам можно бродить, не боясь столкнуться с гуляющими: большинство горожан не знает об их существовании, а кроме того, всех, как полагается, неудержимо тянет к воде, и людской поток движется вдоль берега реки, по каменной каемке, если только она не залита водой, а вечером тем же путем возвращается в город. В лесу наткнешься разве что на юную парочку под кустом, - дерзко и боязливо, как зверьки, выглядывают влюбленные из своего убежища, словно намереваясь, заносчиво спросить нас, уж не возражаем ли мы, что они тут сидят и развлекаются на свободе, - предположение, которое мы молча отвергаем тем, что спешим пройти мимо: Баушан со свойственным ему безразличием ко всему, что не пахнет дичью, а я с каменным и бесстрастным лицом, не выражающим ни одобрения, ни порицания и явно говорящим, что мне до них нет никакого дела.
Но эти тропки не единственные пути сообщения в моем парке. Там есть и улицы - вернее сказать, остатки того, что некогда было улицами, или должно было ими стать, или когда-нибудь, с божьей помощью, еще станет...
Дело в том, что следы кирки первооткрывателей и необузданной предпринимательской деятельности встречаются далеко за пределами отстроенной части местности - нашего небольшого поселка. В ту пору размахивались широко, строили самые смелые планы. Компания по продаже земельных участков, которая лет десять - пятнадцать назад забрала в свои руки всю прибрежную полосу, затевала нечто куда более грандиозное (в том числе и по части дивидендов), чем потом получилось: не как нынешняя жалкая кучка вилл был задуман наш поселок. Земли под участки хватало с избытком, с добрый километр вниз по реке все было подготовлено, да и сейчас готово к приему любителей оседлого образа жизни и земельных спекулянтов. На заседаниях правления компании утверждались щедрые сметы. Мало того что были укреплены берега реки, устроена набережная, разбит парк, рука цивилизации протянулась и дальше в мес; там корчевали, насыпали гравий, в самой чаще вдоль и поперек прорубали просеки - прекрасно задуманные великолепные улицы или наброски будущих улиц, с обозначенными щебнем, мостовыми и широкими тротуарами для пешеходов, по которым, однако, прохаживаемся только мы с Баушаном; он - на неизносимо-добротных подошвах своих четырех лап, а я - в башмаках, подбитых гвоздями, чтобы не сбить ноги о камень. Да это и понятно, виллы, которым, по замыслам и расчетам компании, давным-давно надлежало красоваться среди зелени, так до сих пор и не построены, и это несмотря на то, что я подал благой пример, поставив себе здесь дом. Прошло уже десять или пятнадцать лет, а этих вилл нет как нет, - не мудрено, что на всем вокруг лежит печать унылого запустения, а компания не желает больше вкладывать деньги и достраивать начатое с таким размахом.
А ведь эти улицы без жителей уже имеют названия, как всякие другие в городе или в предместье; и я бы дорого дал, чтобы узнать, какой это фантазер и глубокомысленный эстет из земельных спекулянтов был их крестным отцом. Тут есть улица Геллерта, улица Опица, Флемминга, Бюргера и даже Адальберта Щтифтера, по которой я с чувством особой признательности и благоговения прохаживаюсь в своих подбитых гвоздями башмаках. На углах просек поставлены столбы, как это делается на недостроенных окраинных улицах, где нет углового дома, и к ним прибиты таблички с названием: синие эмалевые таблички с белыми литерами. Но, увы, таблички эти несколько обветшали, - слишком уж давно обозначают они наименование запроектированных улиц, на которых никто не желает селиться, и, может быть, они-то яснее всего и говорят о запустении, банкротстве и застое в делах. Никому до них нет дела, никто их не подкрашивает, от солнца и дождя синяя эмаль облупилась, сквозь белые литеры проступила ржавчина, так что на месте некоторых букв остались либо рыжие пятна, либо просто дыры с противной ржавой бахромой по краям, и название поэтому иногда так искажается, что его и не прочтешь. Помню, когда я только что поселился здесь и начал исследовать окрестности, мне долго пришлось ломать себе голову над одной такой табличкой. Это была на редкость длинная табличка, и слово "улица" сохранилось полностью, зато в самом названии, которое, как я уже говорил, было очень длинным или, вернее, должно было быть длинным, большая часть букв стерлась или же была изъедена ржавчиной: их можно было сосчитать по коричневым пятнам, но разобрать что-либо, кроме половинки "в" в начале, "ш" где-то посередине да еще "а" в конце, не представлялось возможным. Для моих умственных способностей отправных данных оказалось маловато, и я решил, что в этом уравнении слишком много неизвестных. Долго стоял я, задрав голову и заложив руки за спину, изучая длинную табличку. Потом мы с Баушаном пошли дальше по тротуару. Но хотя я, казалось, думал о других вещах, во мне шла подсознательная работа, мысль моя упорно возвращалась к стертому имени на табличке, и вдруг меня осенило, - я даже остановился с испугу, затем поспешил обратно к столбу, снова уставился на табличку и прикинул. Да, так оно и есть. Оказывается, я бродил не более и не менее, как по улице Вильяма Шекспира.