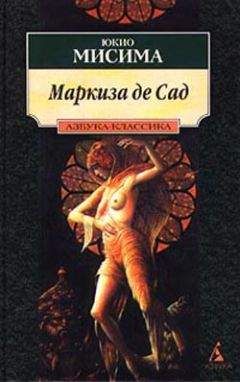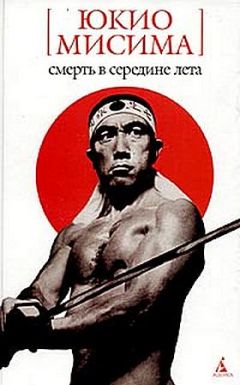решеткой тюремной камеры.
«Он уверен, что Кокубу лучший фехтовальщик в мире», – подумал Кагава. Когда ему казалось, что уважение, которое кто-то испытывает к нему, есть лишь отраженный свет уважения к кому-то другому, это всегда его задевало, и он неосознанно убеждал себя в фальшивости, неискренности этого чувства. Его уверенность возрастала тем сильнее, чем очевидней выражал свою враждебность противник. Наконец он скомандовал прекратить разминку и с удовлетворением отметил, что Мибу дышит прерывисто, тяжело.
Теперь они отрабатывали атаку:
– Рукавица! Шлем!
Мибу целился в соперника, наносил удары короткими сериями, направляя их то в одну, то в другую точку, отступал по мере необходимости, снова приближался и не останавливался ни на секунду.
Но Кагава ни за что не позволял ему прикоснуться к себе – он не собирался поддаваться лишь для того, чтобы приободрить противника.
Напоенный отчаянной силой меч Мибу взлетел, но его удар был вновь отражен. Кагава обходил соперника по кругу, металлическая решетка маски поблескивала в мягких послеполуденных лучах. Он перемещался – и маска то отливала на свету красным, то тускло блестела, если солнце оказывалось за его спиной. Мибу обрушивал свой меч туда, где должен был стоять Кагава, – только затем, чтобы убедиться, что Кагавы там уже нет.
Возгласы Мибу все слабели, он устал от тщетной погони за противником.
Очередной удар был отражен, меч завис в воздухе, а в следующее мгновение, лишенный цели, которой жаждал со столь яростным упорством, вновь рассек пустоту. Чтобы восстановить равновесие и вызволить увязающее в пустоте оружие, требовалось немало сил.
Завалившись вперед, Мибу едва удержался от падения и дернулся назад, похожий на темно-синего ворона.
– Матч до трех очков! – крикнул Кагава, видя, что Мибу устал.
И в этот миг его чувственная броня дала трещину, в ней открылась невидимая, но ощутимая щель. На полсекунды он забылся в сладкой фантазии, изнывая от наслаждения, вперил взор в слабеющую жертву. От упоения собственной силой вспыхнула в нем щемящая радость.
Это была животная радость, жадная, прожорливая, которую чувствуешь, лишь находясь лицом к лицу с противником, всегда – не распробовав толком на вкус, всегда – второпях. Не связанная ни с воспоминаниями, ни с надеждой, эта опасная, безрассудная радость, вызванная тем, что происходит «здесь и сейчас», сродни чувству, какое возникает, когда отпускаешь руль, но продолжаешь крутить педали велосипеда.
Краем глаза Кагава уловил мелькнувшую тень.
И сразу осознал, что дело плохо.
– Шлем! – Мибу звучно припечатал ступню к полу и с неистовой силой обрушил бамбуковый меч на маску Кагавы.
– Твоя взяла. Матч до двух, – лениво протянул Кагава.
Кокубу Дзиро покинул ту часть зала, где занимались старшие фехтовальщики, и теперь стоял перед тренером Киноути – с ним ему предстояло сразиться в поединке. За глаза фехтовальщики называли тренера «тэноути», что в их словаре означало «хватка», поскольку во время тренировки он то и дело покрикивал: «Хватка! Исправь хватку! Что у тебя с хваткой?» И так далее и тому подобное.
Киноути в свои пятьдесят лет был самым уважаемым из прежних членов университетского фехтовального клуба. Когда-то у него была собственная фирма, но потом он передал управление ею младшему брату, исполнительному директору, и вернулся в университет, чтобы всецело посвятить себя клубу.
Едва Дзиро сделал первый шаг вперед, Киноути почувствовал в ученике холодную решимость. Дзиро двигался к нему по прямой линии, подол его хакама то слегка поднимался, то опадал, вторя движению ног, которые скользили, почти не отрываясь от пола.
Киноути любил и уважал юность, бросающую ему вызов. Юность атаковала почтительно, но яростно. Зрелость с улыбкой на губах принимала вызов без колебаний, не сомневаясь в собственных силах. Почтение без ярости у молодых людей – удручающий симптом, это гораздо хуже, чем ярость без почтения.
Юность идет, чтобы нанести удар. И она нанесет удар, но лишь для того, чтобы покориться зрелости. На них одинаковая форма, маски и панцири, они одинаково потеют… Для Киноути время, проведенное в фехтовальном зале, было «моментом истинной красоты», остановившимся навсегда мгновением. Это мгновение наполнялось сиянием черных нагрудников, разлетающимися лиловыми шнурами шлемов, обильным по́том. В нем, в этом мгновении, все оставалось таким же, как тридцать лет назад, когда Киноути сам учился в этом университете.
И вот, поделив на двоих одну цель, зрелость и юность – первая спрятав под маской седину, вторая – разрумянившиеся щеки, – сходились лицом к лицу, так аллегорически недвусмысленно, как если бы вся жизнь с ее сумбуром и неразберихой свелась к простоте шахматной доски. Но если отбросить всю шелуху, лишь это и останется: извечное противостояние – с мечами наперевес в свете закатного солнца – юности и зрелости.
Разминка завершилась. Дзиро стоял, направив меч прямо в глаза пожилому сопернику. Он ждал приглашения к схватке.
У Киноути была невыразительная манера фехтования. Кончик его меча не приближался к противнику, всегда держась как бы на расстоянии. Однако мягкий и легкий как перышко, этот меч был постоянно готов к движению – и это самое опасное. Вглядываясь в Киноути, Дзиро видел воплощенное совершенство. Монолит. Но это неприступное совершенство не походило на закрытую стальную дверь, а скорее напоминало пустую японскую комнату с раздвинутыми перегородками, где нет ничего, кроме татами на полу и белых стен.
Казалось, что Киноути не нуждается в точке опоры, – он плыл, парил в воздухе. Дзиро пронзительно вскрикнул и двинулся вправо.
Киноути был подобен прозрачному конусу, одинаковому со всех сторон, откуда ни подступись. Здесь его не пробьешь. Дзиро сдвинулся еще правее, затем резко развернулся влево. Но и здесь глухо. Собственная предсказуемость была для Дзиро унизительна, его охватил стыд.
По ту сторону его отчаяния Киноути нежился, как огромный, дремотный лилово-черный кот.
Дзиро больше не пытался отыскать слабую точку. Нельзя проявлять нетерпение: если что-то и мешает ему добраться до противника, то это нетерпеливость. Безупречность Киноути – иллюзия, искусное фокусничество. Ничто в мире не может быть столь совершенным.
Дзиро чувствовал, как постепенно покрывается тонкой ледяной коркой. Она грозила сковать плечи, добраться до локтей, ввергнуть его в неподвижность. Если он и дальше будет бездействовать, станет только хуже. Он должен разбить лед, взорвать его со всей силой своего молодого тела.
Описав изящную дугу, взлетели в воздух лиловые шнуры шлема. Он собрался с силами и двинулся – вперед, дальше, дальше. Внезапно прыгнул, вскрикнув, будто голубь, выпорхнувший на свободу из ненавистной клетки.
Блеснула молния, перечеркнув прекрасный порыв. Что-то отбросило меч Дзиро вверх и резко опустилось вниз – он ощутил, как раскаленным клеймом лег на него тяжелый меч Киноути.